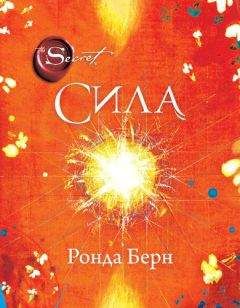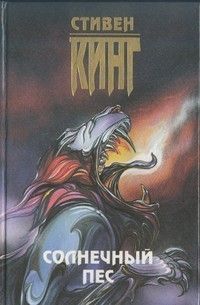Александр СТАНЮТА
ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ
СЕГОДНЯ, ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Бывает, это придвигается опять, ближе и ближе.
И опять спрашиваешь себя: ну что, что там, в тех выцветших обрывках, сохраненных памятью, чего еще не понял до сих пор? Что силишься увидеть нового, когда в который уже раз рассматриваешь их, стараясь задержать перед глазами? Скажем, то, как между железнодорожным полотном и серой стеной, ограждающей станционную территорию, немцы ведут колонну советких военнопленных...
Да, вот это: солнечный жаркий день, уже ближе к вечеру, и они, как и всегда в то лето, идут со стороны дальних, неразрушенных пакгаузов куда-то к Западному мосту.
Почему каждый раз в этом направлении? Непонятно. Но дело не в этом, не в этом... А в чем?
Они, наш и,— в выгоревших, белесых гимнастерках, без ремней, в галифе; а на ногах что? Босые, что ли? Уже и не вспомнить, нет... Но и не это главное.
Все мы, ребята с улицы Толстого, уже бежим рядом с колонной, ловкие и настороженные, оглядываясь на конвоиров с овчарками, когда кто-нибудь из пленных собьется с шага, замешкавшись возле нас, потому что дело уже идет своим чередом, на ходу: мы им — вареные картофелины, огурцы и лук, зеленый, с белыми головками; они нам — деревянные самолетики, раскрашенные и нет, со звездами и без, истребители и бомбардировщики, и те, что — мы откуда-то знаем — садятся на воду, как лодки с крыльями, и те, что похожи на самолеты Чкалова и Громова, летавших через Северный полюс, но это мы уже поймем потом, да и не все, а лишь те из нас, кто останется жив до 3 июля сорок четвертого года, когда Минск освободят...
Так вот: еда — и самолетики.
Взрослые считали каждый кусок, но все же, бывало, старались передать или добросить до разгружавших вагоны пленных что-нибудь съестное. И бабушку Каролину Стефановну конвоир, случалось, толкал в плечо прикладом, осыпая ругательствами. Но те пленные, за которыми мы бежали вечерами в то лето, они, выходит, мастерили свои самолетики, понимая, что получить что-то еще и от полуголодных детей можно уже не просто так, а за игрушку, и чем она лучше, тем больше на нее удастся выменять...
И — детская жестокая бездумность! — как-то почти не замечались тогда в колонне те, что шли, не глядя на нас, без игрушечных самолетиков, а ведь их было большинство.
Именно так и было. Именно так, а не иначе. И это совсем не походило на то, что могут вообразить пионеры, которым о военном времени рассказывали люди хоть и воевавшие, но теперь искренне не понимающие, почему «так жесток», скажем, Константин Воробьев, описывая плен в повестях «Крик» и «Это мы, господи».
И еще то, о чем при нас рассказывали взрослые, чаще всего женщины.
Это они, женщины, в конце зимы сорок второго года могли видеть из окон домов на близкой от нас Московской улице те колонны пленных, которых вели куда-то через город от Товарной станции всю ночь— и всю ту ночь слышалась стрельба. Утром, когда кончился комендантский час, они дошли а,о сквера возле теперешнего театра имени Янки Купалы: по обе стороны от проезжей части лежали убитые, чаще всего ничком, потому что, наверное, сперва падали на колени от изнеможения — такими исхудавшими они были. И везде была видна замерзшая на утоптанном снегу кровь.
Вот об этом тогда рассказывали дома и соседям женщины, а мы запоминали на всю жизнь.
И невозможно было подумать, что те из них, из этих наших, кто чудом выживет и вырвется из немецкого плена, а затем уцелеет на фронте, снова пройдут в колонне вдоль той же стены и пакгаузов, только уже в обратном направлении — опять на станцию, к товарным вагонам на запасных путях, и «в дальний путь, на долгие года», кто в Воркуту, кто за Урал...
Нет, никто из нас не мог даже подумать это. Ни тогда, когда мы ловили свой миг удачи с огурцом в руке. Ни позже, когда взрослые, в чьих паспортах ставилась красная печать для бывших в оккупации, советовали нам не упоминать в школе, что мы — эти «бывшие» тоже. Ни даже позднее, когда этого уже можно было и не скрывать.
Пленными же мы привыкали видеть только немцев: они жили летом «на биваке» за колючей проволокой у пересечения улиц Володарского и Урицкого, напротив пожарной части; они разбирали развалины и раскачивали, повиснув на тросах, обгорелые кирпичные стены и дымоходы; они возводили чуть ли не дворцовое здание республиканского Министерства госбезопасности для тогдашнего его шефа, второго, после Берии, Лаврентия — Цанавы.
А потом пришло время, когда о многом заговорили, в том числе и о бывших наших военнопленных, которые оказывались «пленными» и после войны, уже в своей стране. Но даже и тогда мало кто мог вообразить, чтобы об этом было сказано печатно. В то время Василием Гроссманом было написано: «...Решалась судьба немцев- военнопленных, которые пойдут в Сибирь. Решалась судьба советских военнопленных в гитлеровских лагерях, которым воля Сталина определила разделить после освобождения сибирскую судьбу немецких пленных».
Теперь это напечатано, времена уже другие, а тогда...
Тогда Василь Быков жил в Гродно, печатался в «Новом мире» и журнал этот, с трудом отстаивая свою позицию и авторов, опаздывал к читателям на месяц или два — и «по причине» быковских повестей тоже.
Тогда у нас, в редакции республиканской молодежной газеты «Знамя юности», считалось, что если кто-то был в командировке в Гродно и не повидал Быкова, то не совсем понятно, зачем он туда ездил вообще.
И это тогда, после публикации «Мертвым не больно», сменный секретарь нашей редакции принес из цеха, где версталась и «Советская Белоруссия», оттиски ее завтрашнего номера, где под заголовком «Вопреки правде жизни» Быкову читалась нотация (без подписи автора, но с подписью редактора на той же 4-й странице — А К. Зинин).
С тех пор прошло много лет. Быкова, его знание войны и воссозданную им в литературе правду о ней уже давно не «опровергают». Но... Спустя года полтора-два после выхода «Знака беды» от одного из белорусских критиков, идущих сегодня уже в первых рядах перестройки, можно было услышать о Быкове: «Оказалось, что он не космополит». Вместе со вздохом облегчения слышалось как бы и сожаление: ведь если не космополит, так чему теперь противиться у Быкова, что теперь не принимать у него? Словом, в глазах наиболее бдительных в этом отношении критиков Быков после «Знака беды», после столь запоминающихся образов Петрока и Степаниды Богатьков был «реабилитирован». Они его как бы простили, быть может, даже решив, что исправили наконец. Благо и в последних повестях писателя — «В тумане» и «Облава» — тоже созданы глубокие национальные характеры — Сущени и Ровбы.
Надо наконец назвать вещи своими именами: думаю, что в сегодняшней белорусской литературе нет писателя, который глубже, смелее и настойчивее, чем Быков, противостоял бы своим искусством тому закоснелому и демагогически благополучному, ложнопатриотическому и холопски лояльному, что внедрялось в сознание людей более полувека и извращало важнейшие понятия о достоинстве человека, о его свободе, об истории народа, о войне его и мире.
Да, тут он действительно первый, а не «один из...», как обычно принято у нас говорить.
Быков, пишущий «все время про войну»,— убедительнейший пример писателя, современного в самом глубоком смысле, по общей нравственной идее своего творчества, а в наши дни прямо-таки жгуче современного и актуального. Его правда о минувшей войне — это правда и о довоенном нашем обществе, та именно правда, которая многим еще теперь поперек горла.
Вспомним, например, как в «Знаке беды» Степанида чует будущее несчастье в дарованном ей с Петроком «счастье» на земле, отнятой у других людей.
А тот страх недоверия в романе «Карьер», то нетерпеливое желание доказать свою благонадежность, что заставляет Агееварисковать и в конечном счете жертвовать любимой женщиной?
Или взять ту повесть Быкова, где «в тумане», в мороке подозрительности, вошедшей в кровь людей даже не с 30-х, а еще с 20-х годов, как в дурном, вязком сне, все длится и длится трагический абсурд, пока не прозвучит последний выстрел Сущени — ни в чем не повинного человека, лишь случайно не казненного партизанами, человека, для которого невозможность доказать людям свою невиновность в предательстве уже есть и невозможность жить среди них...
И вот все это — что, нравится сегодня всем без исключения? Это всеми может быть принято без внутреннего сопротивления? Ну, а если это прошлое — не только «история», но и самое лучшее время жизни, тем более дорогое, чем меньше его остается впереди? Каково читать подобное о времени людям, которым жилось тогда в полную силу молодости, зрелости, правы они были тогда или не совсем, свободны в выборе, поступках или подневольны? Да ведь признать теперь, что так вот именно все и происходило в лучшую пору их единственной (больше не будет!) жизни — значит, в чем-то и отказаться от нее, разлюбить сохраняемое в себе ощущение ее, бесконечной, как казалось когда-то. Это же все равно что согласиться с окончанием собственной жизни раньше всякого мыслимого срока, чему не только разум и воля противятся, но и «биология».