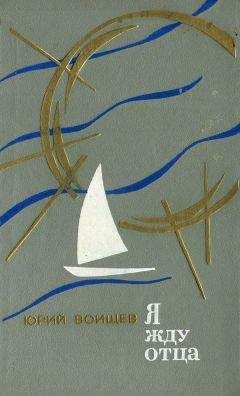— Я понимаю…
— Ну, Сергей, — сказал Назаров, — давай руку… А это тебе от меня на память. Всю войну, можно сказать, проносил.
И он протянул мне звездочку, которую солдаты носят на пилотках. И я взял потускневшую солдатскую звездочку, которая — как памятник всем погибшим в этой войне и как высшая награда всем, кто воевал и вернулся живым.
Когда мы вернулись, мать вдруг подхватила меня на руки и закружилась по комнате. И смеялась. И я смеялся. И бабка смеялась.
И вдруг мне показалось, что я снова бегу по полю. И горит надо мною громадное солнце. И травы — сухие, мертвые — путают ноги. И сердце сжимается — такое пустое поле. И нет никого. Только мертвые травы и цвелое рыжее солнце на пыльном небе. И я бегу и тоскую — так мне страшно. И тогда я вижу: далеко — далеко, на самом конце поля, — отец. Мне кажется, он идет мне навстречу. Но чем ближе я подбегаю к нему, тем яснее вижу, что он медленно уходит от меня.
«Папа!» — кричу.
А он уходит.
«Папа!» — кричу.
Уходит.
Не обернется. Не глянет. Уходит. В шинели. Худой. Длинный. Небритый. Уходит.
Я бегу, и кричу, и машу руками. А земля бешено вращается под ногами. И земля похожа на гигантское колесо, какие обычно стоят в парках и по которому надо бежать, не останавливаясь ни на секунду — иначе свалишься.
«Папа!» — кричу и останавливаюсь.
Колесо отбрасывает меня. Лежу — лицом в землю. Потом поднимаю голову. Отца нет. Ушел.
Мать кружит меня по комнате. Я вырываюсь из ее рук.
— Ты не знаешь, где у нас фотокарточка отца? — спрашиваю.
Улыбка исчезает с ее губ. Она долго смотрит на меня.
— Зачем она тебе? — спрашивает.
— Нужна, — говорю.
— Сейчас найду…
Мать долго копается в старых бумагах и письмах. Находит фото.
— Зачем оно тебе? — спрашивает.
— А разве тебе оно уже незачем?!
— Не смей говорить так! Что ты понимаешь в жизни?!
Молчу. Разглядываю фотографию. Не хочу говорить с матерью. Ненавижу ее. Всех ненавижу — и Назарова, и Николая Палыча. Что им нужно?! Чего они лезут?
— Что я тебе сделала?
Спрашивает! Другие матери ждут и с чужими мужиками не разговаривают. А она!..
— Почему ты молчишь? Что я тебе сделала?
— Ничего, — говорю.
И вдруг мне становится страшно жаль ее. И себя. И всех других пацанов, которые без отцов. И матерей — тоже жаль. А чем я им могу помочь?! А мне кто поможет?! Я молча разглаживаю карточку. Потом бабкиной булавкой прикалываю ее к стене над своей постелью. И отец смотрит на меня со стены задумчиво и печально.
Мой сосед по парте — Гнилушкин — удивительный малый. Когда он говорит, у него движутся уши. Как я ни пробую шевелить ушами — ничего не получается.
— Уметь надо, — говорит Гнилушкин, и уши у него шевелятся.
Это верно: надо уметь. А я многого не умею. Например, я не умею писать букву «я». А Гнилушкин умеет.
На уроке письма я страдаю. Надо написать целых пять строчек. Надо заполнить их от начала до конца. И все одной и той же буквой — «я». А у меня не получается.
— Слышь, — Гнилушкину говорю, — напиши строчечку.
— А чего дашь?
А у меня и нет ничего.
— Бесплатно и в театре не работают! Сам пиши.
А у меня не получается. Буквы то взлетают, то падают. Страх сплошной. Гад ты, Гнилушкин!
А учительница ходит по классу и в тетрадки заглядывает. В мою глянет — в обморок упадет! «Издеваешься? — скажет. — Сколько пропустил, а издеваешься. Не хочешь учиться — уходи из школы. На улице твое место, а не в школе». И начнет. Не возрадуешься. Будет мать тягать, чтобы она повоздействовала. А разве я виноват, что не умею писать букву «я»? «А разве я тебя не учила? — скажет. — Разве я не вбивала в твою дурацкую башку и „я“ и все такое прочее?!» Не отвертишься. А мать раскричится на всю школу и начнет на тебя воздействовать при всем честном народе. Ох и смеху будет!
— Напиши!..
— Нина Осиповна, что меня Васильев отвлекает!
— Васильев! Прекрати хулиганство!
— Да я разве — что?
— Опять ты пререкаешься. Долго мне с тобой еще спорить?!
— Да я — молчу…
На том и съехало.
Теперь еще об одном человеке — дружке Гнилушкина, а потом уже о звездочке, которую мне подарил Назаров. Сейчас расскажу, почему вышла такая история. Был в нашем классе мальчик — Славка. Ничего себе, подходящий. Я его отца как-то видел. Он в школу приходил. Толстый мужик. Майор вроде. А там, кто его знает, может, и выше, может, и генерал, я в чинах не разбираюсь. Так вот, у всех пацанов отцы на фронте, а Славкин дома отирается. И на войне-то не был. А так, просидел в тылу, пока другие воевали. И все об этом, конечно, знают. Но никто Славку и не упрекал. Разве, мол, он виноватый, если отец дерьмо. Только Славка в папку вышел, натура такая же. А так прикидывается своим. Только важничает сильно, а так — ничего. И пацаны ему завидуют. Даже не ему самому, а его костюмчику. А костюмчик у Славки был — по всем правилам военной моды. Прямо настоящий мундир, с погонами, с широким ремнем. А на ремне — настоящая кобура. Только пистолет — игрушечный. Славка в школу один не ходил. Его провожал и встречал папин шофер, который и по дому иногда прислуживал. Пожилой такой мужчина. Добрый очень. С пацанами ладил.
Как-то я опоздал в школу. Бегу, смотрю в коридоре стоит дядя Кирилл, так шофера звали, и старушка уборщица. И о чем-то о своем они разговаривают. Я когда ближе подошел, смотрю, дядя Кирилл в платок сморкается и плачет вроде.
Меня как по сердцу царапнуло — жаль его стало. И идти как-то неловко: еще чего подумают. Так и стою. Жду, когда они в мою сторону посмотрят. А они меня и не видят. Стоят себе и тихонько говорят о чем-то своем. И слышу, дядя Кирилл говорит:
— А Славка-то опять нажалился своему… Вроде я его сапожки плохо почистил… А тот-то как рявкнет: «Я тебя в штрафники упеку!» Скажет такое! Я сам намедни ему говорю: «Отпустите вы меня в действующую…» А он стоит — пузо вперед, и вроде и не слышит и не видит… И милости ни от него, ни от всей ихней семьи никакой не вижу… одна ругань…
— Горе-то какое, — вздыхает старушка. — Ужасть просто…
— А из деревни вести паскудные ползут… голодают… Я-то как-никак и одет, и обут, и в тепле, и сытый, а там как же…
— Ох, господи, тяжки кары твои, — снова вздыхает старушка.
— Да не расстраивайтесь… расстроил я вас… Нынче-то у всех — беды да печали…
— И когда ж конец-то проклятой?!
— Мой говорит, скоро. Вот до Берлина дойдем — и конец. А ему виднее, он при штабе…
— Да уж скорей бы!
— Будем в надежде…
Они так и не заметили меня, потому что прозвенел звонок, и ребята посыпались из классов.
Весь день я думал об услышанном разговоре. И так мне хотелось поколотить Славку, даже руки гудели. На последней перемене я все-таки не выдержал и стал на него задираться. А он:
— Чего ты, чего ты… Это ж брехня… Папе завидуют…
И все такое прочее. Словом, отвертелся. Я ему даже поверил. Так он врал здорово. Но, чувствую, он затаился. И обязательно мне насолит. Ладно, думаю, подожду, а там — посмотрим.
А я в этот день пришел в школу в новой рубашке и на ней звезда. Подарок Назарова. Хожу — задаюсь. Не у всех такие звезды есть. Хвастаюсь:
— Отец с фронта прислал!
— Заливай, заливай, — сказал Гнилушкин. — Небось выменял у кого-нибудь.
— Говорю, отец прислал.
— Кончай арапа травить, — влез Славка. — Твой отец убитый давно…
Тут Гнилушкин как рванет звезду, так и выдрал живьем с куском рубахи. Отбежал и дразнит:
— Поймаешь — твоя, не поймаешь — моя.
— Отдай, — говорю, а сам чуть не реву. Обидно. — Гады! — говорю.
А чего я с ними могу сделать, когда их двое, а я один. А тут урок начался. Гнилушкин сел со Славкой позади меня, и стали они шепотом на меня задираться. Я сначала терпел. Ничего, думаю, пусть только урок кончится. А они мне пообещали после уроков веселую жизнь устроить и стали перьями колоть. Раз укололи. Я ничего. Другой укололи. Я говорю: может, хватит? А они — гы — ы — и опять. Я подскочил да как врежу — сначала одному, а потом другому, так у них сопатки и расплющились. Я вообще крепкий малый. Тихий только. Но им я хорошо приложил. Хотел пройтись еще раз, да не успел. Учительница взвыла, как сирена, и вышвырнула меня из класса.
Стою в коридоре, переживаю. Попух, думаю. Да и думать нечего: ясно — попух! Вижу, Гнилушкин выходит и нос в кулаке держит. Чтоб кровянка не капала. Я ему:
— Звезду давай!
Он отдал.
А Славка так и не вышел. Наверное, я ему хуже смазал.
Книги у меня отобрали и без матери велели не приходить.
На другой день мать пришла в школу. А учительница уже нас ждет. И около нее стоит Славкин отец. И злость от него летит на три километра.
Учительница и слова сказать не успела, как он понес и меня и мать. Мать с ходу заплакала. Мне было ее страшно жаль. И в то же время ругал ее в душе за то, что она не может отпеть этому жирному крокодилу. А крокодил брызгался слюной и злостью. Так он меня перепугал, что я потом целый месяц боялся, как бы за мной не приехала милицейская машина. В общем, смысл его обвинительной речи сводился к одному: он, мол, воевал, кровь проливал, а его сына какой-то чуть не убил.