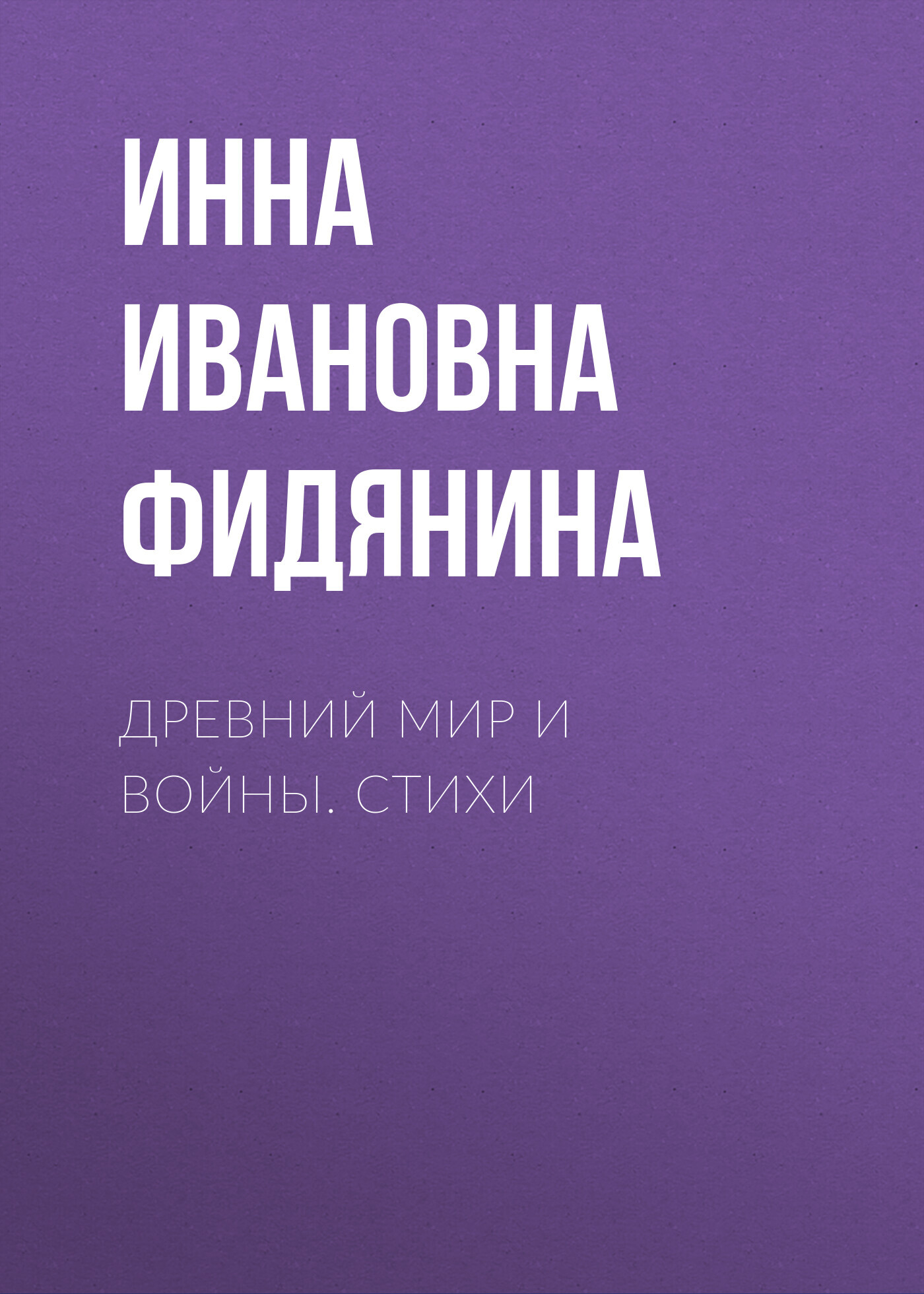на веревку его посадить. Но веревку он быстро прогрыз. Тогда она до кузнеца поползла, попросила, чтобы тот выковал собачью цепь, да не простую, а легкую, но прочную. Такая цепь тоже денег немалых стоит, но сколько — кузнец не сказал, а у самой бабки язык — могила.
А вот откуда у нашей крали рубли железные водились — другой вопрос. Я, к примеру, дед честный, то ложки деревянные точу, то лапти плету, и бабка моя такая же — шерсть с кого ни попадя вычесывает, носки из той шерсти вяжет да на рынок возит. Но подруга Протасовна по другому жизнь свою кумекала, эта «курица» не только раненых «цыплят» из лесу тащила, но и травку всякую лечебную. Говорят, к ней впотайне бабы бегали: те, которые забрюхатеть не могут, и те, которые от плода избавиться всенепременно желали. А может и ещё зачем. Кто ж их, баб, разберет? Бабы, это те же партизаны, токо войны у них дюже противные: то за мужика дерутся, то супротив мужика. Ах да, об чем это я…
Ну так вот, за свои непотребны дела и брала Протасовна медяками, чем местных знахарей дюже расстраивала, мол, хлеб у них отбирала. Но она не только знахарок да повитух расстраивала, а и нашу ведьму Ведьминку, что в лесу жила. Ведьму по имени тоже никто и не звал, но ни от того, что забыли как убогую в младенчестве нарекли, а слишком уж непростое у неё было имя: Дульхерия Перобродо… Подбородовна — не помню, в общем. Вот и звали её поэтому очень просто: теткой Ведьминкой.
И уж насколько этот страшный бабский треугольник меж собой враждовал, народ не знал, но брехал об их войнах много. А чего ему ещё делать, народу? Не на царя же с вилами идти! А можа и на царя…
И потекли крестьянские пересуды с троекратной силой:
— Протасовна собаку завела как оберег.
— Э-э нет, чтобы злую псину на ведьму натравить и умертвить нечистую силу.
— Божий одуванчик, по ночам своего Ярчука с цепи снимает и на волю вольную побаловаться отпускает.
— Видали, видали люди эту тварь в темно время, зря елозить языками не будут.
Ну слухи слухами, а надо бы их проверить. Забеспокоился я чего-то: и на левом боку спать не могу и на правом. Ай, махнул рукой и побег я до Ведьминки. Постучался я к ведьме в дверь. Тетка мне открывает, недобро так глядит и говорит:
— Чего тебе надо, колдун Берендей?
— Дык, — говорю. — Ничего, просто проведать зашел. Яичек вон тебе моя бабка передает.
И корзинку с яйцами ей прямо в нос тычу. Расплылась тут ведьма, растаяла аки масло на сковородке, корзинку хвать и под лавку прячет. А как выпрямилась, так и затарахтела как обычная баба:
— Вот Спасибо, Егор Берендеевич, знать угодила я Добране Радеевне!
Вот те на! Не понял я про себя о чём убогая лопочет, но виду не подал. А ведьма и дальше намеки странные делает да подмигивает:
— Помогло, значит, моё зелье супруге твоей Добранушке. Ты ей кланяйся от меня низко, а на словах передай: ежели чего, пущай ещё заходит.
Я в ус дунул:
— Вот как! — а сам нежданно-негаданно дурак дураком пред бабьей тайной стою.
Но не шибко я растерялся, по сторонам помаленьку зыркаю да саму Ведьминку осматриваю, может какое горе на ней найду. У меня ведь своё дело: не напроказил ли у ведьмы Ярчук? Ну похоже что и напроказил. Ведь каково бы длинно платье у бабы не было, а и оно, поди, не царское — не до пят. Глядь я на щиколотки Ведьминки, а её ноги тряпками обмотаны, а на тряпках запекшаяся кровь видна. Да и руки у ведьмы под кофтой дюже толстые сегодня, никак тоже тряпками перемотаны?
Догадался я в чем дело, а ведь покусала её собачка.
— Наливай, — говорю. — Мне, тетка, иван-чай, озяб я что-то.
Но Ведьмика тоже мысли чужие читать умеет, она подозрительно на меня покосилась и давай из хаты выпроваживать:
— Во-первых, лето на дворе, озябнуть не с чего. А во-вторых, ты баранок сладких не принес. А как припрешь баранки, так и милости прошу!
Ну вот и поговорили. Впрочем, разговоры тут особливо и не нужны, и так всё ясно: до большой беды недалеко. Побежал я скорехонько до Протасовны. А у самого в голове лишь одна думка и вертится:
— Натравила, зараза, пса на ведьму! А ведьма, она тоже человек, и она ж зачем-то природе нужна.
Но мы скажем по секрету,
по секрету всему свету:
Берендею-колдуну
не впервой дудить в дуду
солидарности.
Дурачьё, и песни ваши от бездарности! Ломлюсь я, значит, уже к Протасовне. А Ярчук на цепи надрывается, до хозяйки меня не допущает, так и бесится, так и трясется от злости. Бывают же собаки такие лютые! Вышла из дому Протасовна, шикнула на собаку и прямо-таки ползет до калитки, хотя вчерась ещё по лесу как заведенная шныряла.
— Вы, — говорю. — Бабы распри свои поберегите до новых Литовских войн, али до Поляческих. А меж собой негоже на ножах жить. Срамота да и только. Кончайте друг дружку в гроб загонять!
Протасовна меня не слышит, всё охает, ахает, да в толк не возьмет об чем ей дурной старик лопочет. Но дурной старик и не такие города брал, я её хвать в охапку и припер к забору:
— Ты, Протасовна, не дури! Был я намедни у Ведьминки. Так она мне рассказала, как твой пес её покусал, а в ответ она на тебя заклятие суровое наложила. Вот поэтому то ты теперь и сама хворая предо мной стоишь.
Говорю я ей это, а сам хитро на старуху поглядываю. А у той глаза как оладьи сделались, страшенно она на меня ими зыркнула и захрипела:
— Брешешь ты всё, не травила я Ярчука на ведьму! Надобности мне в том нет.
— А зачем собачку вещую покупала? Кто ж теперь в невиновность твою поверит?
А у бабки уже и слезы из глаз брызжут:
— Да не покупала я её, говорю же, на дороге нашла. Подыхал щеня, я его и прибрала к рукам.
Сплюнул я наземь и домой побрел:
— Разбирайтесь сами! Ну, а ежели Ведьминка помрет, я молчать не стану.
И не смолчал старый дурень. Пришел и тут же своей старухе всё как на духу выложил. Да ещё и намекнул на тайные дела Добраны с нечистой силой:
— Кланяется тебе Ведьма, говорит, исчо к ней за потравой