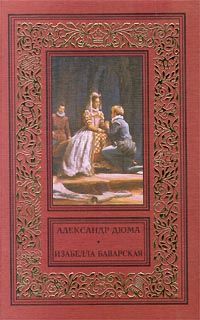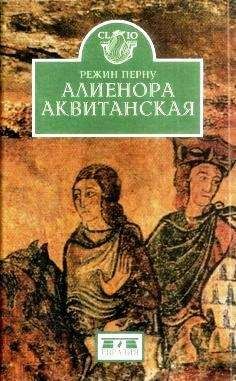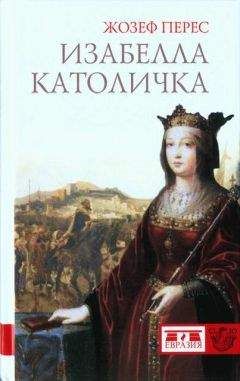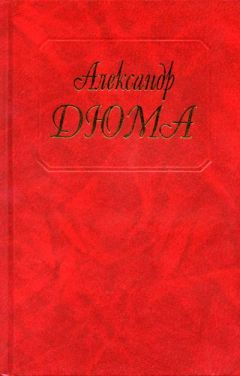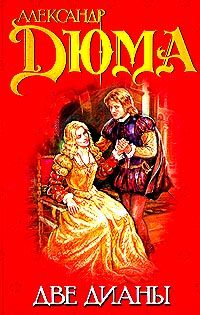Поэтому оба рыцаря отправились в тюрьму, чтобы повидать Бетизака и научить его, как оправдаться. Однако тюремщик сказал, что ему и еще четырем стражникам, караулившим преступника, король под страхом смерти запретил допускать кого бы то ни было с ним разговаривать. Огорченные этим рыцари поскакали обратно к герцогу Беррийскому.
На другой день часов около десяти утра за Бетизаком пришли. Когда он понял, что его ведут не в королевский совет, а во дворец епископа, он немного приободрился. Во дворце собрались вместе как королевские чиновники, так и чиновники святой церкви. Это послужило Бетизаку лишним доказательством, что между судом светским и церковным нет согласия. Вскоре безьерский градоначальник, доселе державший его в тюрьме, сказал, обращаясь к церковнослужителям:
– Милостивые государи, перед вами Бетизак, которого мы вам передаем, как еретика и человека, проповедовавшего против веры. Если бы его преступление подлежало королевскому суду, этот суд и судил бы его. Но он еретик и потому подлежит суду церковному. Судите же вы его по его делам.
Бетизак решил, что он спасен.
В это время епископальный судья спросил его, действительно ли он такой грешник, как здесь говорили. Видя, что дело принимает тот самый оборот, которого, как ему было сказано, только и можно пожелать, Бетизак ответил, что, мол, да, это верно. Тогда в залу впустили народ и заставили Бетизака прилюдно повторить свое признание. Бетизак повторил его трижды, так он был околдован старцем, а народ трижды выслушал это признание, выслушал с рыканьем льва, чующего запах крови.
Судья подал знак, и вооруженные стражи схватили Бетизака и повели его прочь. Когда он спускался по ступеням епископского дворца, народ обступил его со всех сторон таким плотных кольцом, словно боялся, как бы он не удрал. Бетизак думал, что его ведут из города, с тем чтобы отправить в Авиньон. Внизу, у лестницы, он вдруг увидел своего старика. Тот сидел на тумбе, лицо его светилось радостью, которую Бетизак истолковал как добрый знак: он кивнул ему головой.
– Да-да, все идет на лад, – промолвил старик в ответ и рассмеялся.
Он встал на тумбу и, оказавшись над толпой, закричал:
– Не забудь же, Бетизак, это я дал тебе хороший совет!
Потом, сойдя с тумбы на землю, старик поспешно, насколько позволял ему преклонный возраст, зашагал по улице, которая вела к епископскому дворцу.
Бетизака вели туда же, но по другой, широкой улице, по-прежнему в окружении огромной толпы, которая время от времени разражалась негодующими криками, нам уже знакомыми, ибо мы не раз их слышали. Преступник различал в этих криках лишь голос ярости народа, который видит, что добыча от него ускользает, и он даже удивлялся тому, что эти люди позволяют ему так спокойно выйти из стен города. Когда его привели на площадь перед епископским дворцом, то и здесь он был встречен гневным криком толпы, подхваченным теми, кто его сопровождал. Но тут люди устремились к самой середине площади, где был сложен костер, из которого поднималась виселица, протягивая к большой улице свою тощую руку с цепью и железным ошейником. Бетизак остался один со своими четырьмя стражниками, настолько все торопились занять для себя поудобнее место около эшафота.
В эту минуту истина предстала перед Бетизаком во всей своей наготе: она обрела облик смерти.
– О герцог, герцог, – вскричал он, – я погиб! Помогите, помогите!..
Толпа ответила возгласами проклятия: она проклинала герцога Беррийского вместе с его казначеем.
Так как преступник ни за что не хотел идти дальше, четверо стражников подняли его и понесли на руках; он отбивался, кричал, что он вовсе не еретик, что он верит в воплотившегося Христа и в святую Мадонну, божился, что говорит правду, просил у народа пощады, но каждый раз мольбы его встречались взрывами хохота. Он призывал на помощь герцога Беррийского, но каждый раз крики «Смерть! Смерть!» были ответом на его мольбы.
В конце концов стражники притащили Бетизака к костру. И здесь он увидел старика: тот стоял, опершись на одно из бревен, загораживавших вход к костру.
– Негодяй! – воскликнул Бетизак. – Это ты привел меня сюда!.. Люди добрые! Я ни в чем не виноват, этот человек околдовал меня. Спасите, люди добрые, пощадите!..
Старик рассмеялся.
– Память, видать, у тебя хорошая! – крикнул он Бетизаку. – Ты не забываешь друзей, которые советуют тебе добро. Вот тебе мой последний совет: подумай о своей душе!
– Да-да… – промолвил Бетизак, надеясь выиграть время, – да-да… священника… священника!..
– А на что он нужен, священник-то? – спросил старик. – У этого изверга нет души, а тело его уже погибло!
– Смерть ему! Смерть ему! – ревела толпа.
К Бетизаку подошел палач.
– Бетизак, – обратился он к нему, – вы осуждены на смертную казнь, ваши дурные поступки привели вас к печальному концу.
Бетизак не двигался, глаза его бессмысленно смотрели вокруг, волосы встали дыбом. Палач схватил его за руку, и он пошел покорно, совсем как ребенок. Взойдя на эшафот, палач приподнял преступника, а подручные, раскрыв ошейник, надели его Бетизаку на шею: он повис, хотя удушья еще не наступило. В эту самую минуту старик схватил уже приготовленный горящий факел и поджег костер; палач со своими помощниками соскочил с помоста. Пламя, готовое поглотить несчастного, возвратило ему энергию. И тогда он, без единого крика, уже не прося больше пощады, схватился обеими руками за цепь, на которой висел, и, цепляясь за ее кольца, стал карабкаться по ней все выше и выше, пока не добрался до перекладины. Обхватив ее руками и ногами, он таким образом, насколько это было возможно, удалился от пламени. Пока еще костер только разгорался, пламя его не достигало, но вскоре оно охватило весь костер и, как живое, одушевленное существо, как змея, подняло голову к Бетизаку, меча в него дым и искры, и наконец принялось лизать его своим огненным языком. От этой смертоносной ласки несчастный закричал: одежда на нем запылала.
Воцарилась глубокая тишина: толпа замерла, боясь упустить хотя бы малость в этой последней схватке между человеком и стихией; слышны были только жалобные его стоны и ее ликующий рев. Человек и огонь, жертва и палач, казалось, сплелись друг с другом в смертельном объятии, но наступила минута, и человек признал себя побежденным: колени его ослабели, руки отказывались держаться за раскаленную цепь; он испустил истошный крик и, свалившись, висел, охваченный пламенем. Это бесформенное существо, уже утратившее человеческий облик, еще несколько секунд судорожно извивалось среди огня, потом остановилось в неподвижности. Еще через мгновение кольцо, державшее цепь, высвободилось, ибо и сама виселица уже горела, и тогда, словно увлекаемый в преисподнюю, труп упал вниз и исчез в пламени костра.
Несметная толпа народу сразу же молча рассеялась, подле костра остался только старик, так что каждый задавал себе вопрос, уж не сам ли сатана явился за душой грешника.
Старик этот был человеком, дочь которого оказалась жертвой насилия Бетизака.
А теперь, если читатель желает в подробностях представить себе описываемые нами события и готов для этого вместе с нами покинуть стены Безье; если он согласен оставить цветущие равнины Лангедока и Прованса, их знаменитые города, где звучит язык, пришедший из древних Афин и Рима, оставить сребролистые оливковые рощи, пересеченные водными потоками, что струятся в густо поросших олеандром берегах, омываемых волной, еще теплой от лучей босфорского солнца, – если он готов покинуть все это ради гористой Бретани, ради ее вековых дубрав и древнего языка, ради ее зеленых океанских пучин, тогда давайте перенесемся в окрестности древнего Ванна, остановимся в нескольких лье от этого города и войдем в укрепленный замок – надежную резиденцию одного из тех могучих феодалов, которые в любую минуту готовы превратиться в опасных бунтовщиков. Там, отворив резную дверь низкой столовой, мы увидим двух человек, сидящих за столом, на котором стоит чеканной работы серебряный кубок, наполненный вином с пряностями. Видимо, один из них был с этим напитком в большой дружбе, между тем как другой от питья воздерживался, словно бы по предписанию медиков, и всякий раз, когда товарищ, не в состоянии заставить его выпить до дна драгоценную влагу, пытался хотя бы подлить ему в неполный стакан, тот упорно закрывал свой стакан рукою.
Первый, означенный нами как противник трезвости, был человек лет пятидесяти – шестидесяти, состарившийся под боевыми доспехами, которые и сейчас покрывали его с ног до головы; смуглый, чуть порозовевший лоб этого человека, обрамленный расчесанными на пробор седеющими волосами, был изборожден морщинами, причем не столько от старости, сколько от тяжести постоянно носимого им шлема; в короткие промежутки отдыха, предоставляемого ему занятием, за коим мы его застали, он опирался локтями о стол, положив подбородок на свои сильные руки, так что рот его, спрятанный в густых усах, которых он то и дело касался нижней губой, оказывался как раз на уровне серебряного кубка, куда он поминутно заглядывал, словно следя за убывающей при каждом очередном глотке влагой.