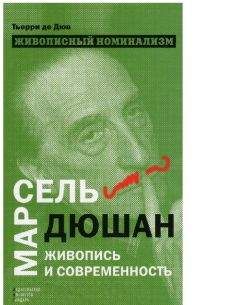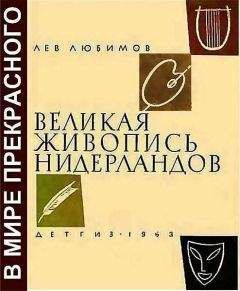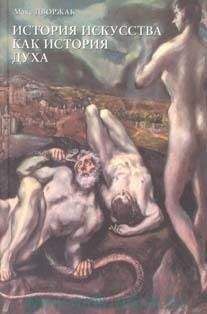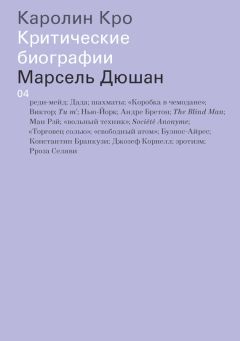Однако это иллюзия: стоит ли удивляться тому, что сюрреализм, который чаще всего действовал путем более или менее механического приложения к живописи фрейдистской доктрины, дает видимость эффективности симптоматического подхода? Его интерпретируют «в обратном направлении», прочитывая в произведении живописный прием, истоком которого было первоначально само это прочтение. На самом деле симптоматический подход не может принести истории искусства какое бы то ни было знание, если он прилагается к исторически более позднему по отношению к нему произведению, то есть к любому произведению, на которое уже не распространяется теория представления, еще служившая опорной точкой фрейдовской мысли. И это ни в коей мере не преуменьшает ценности работ Фрейда применительно к искусству, так как то, чему мы можем научиться у него сегодня, не имеет— или уже не имеет — отношения к идеологии. По-
с языковыми формами значение употребляемого следом прилагательного «формообразующий». — Прим. пер.
H
этому нет смысла бесконечно критиковать рассуждения о закрытости «идеологии представления» и о ее прорыве. Будем последовательны: если симптоматическое прочтение не работает применительно к искусству после Фрейда, то мы не выйдем из этого круга, просто развернув тот же подход против Фрейда. Его неудача — но и его успех по отношению к Леонардо и Микеланджело — говорят совсем о другом: возможный пересмотр вопроса о связи между искусством и психоанализом требует сегодня сопоставления фрейдовской теории с искусством, которое было ей современным, и ни с каким другим. Это связь эвристического параллелизма, а не идеологического противоречия.
Поэтому оставим малообоснованные сближения и предпочтем альтернативе «Леонардо по Фрей-ду»/«Фрейд по Сезанну» скромный параллелизм. Лиотар усматривал у Сезанна позицию желания, аналогичную той, исходя из которой говорит Фрейд, но как раз поэтому совершенно отличную от той, о которой он говорит. Сегодня можно перейти от аналогии к прямому сравнению. Искусство и психоанализ — это практики и субъективные, и интерпретативные, которые подразумевают тем самым и «позиции желания», и их теоретическую разработку. Их развитие во времени приносит познания— в этом и состоит смысл трассировки, о которой говорилось выше. Оставить малообоснованные сближения — значит, таким образом, рассмотреть хронологические линии искусства и психоанализа в их параллелизме, с учетом взаимной импликации. Если эта импликация откроет теоретическую «истину», то последняя будет не окончательной, всегда — с отсрочкой до завершения трассировки, и вместе с тем наверняка различной для теоретика искусства и для психоаналитика. Важно, следовательно, не зафиксировать эту «истину», а сохранить чуткость к «функции истины», которая действует на двух полях и ме-
жду ними: как истина, выявляемая произведениями в поле, определенном как психоаналитическое, и как истина, выявляемая психоанализом в поле, определенном как эстетическое. Будем рассматривать эти истины как открывающиеся с обеих сторон условия их собственного возникновения: с одной стороны — условия трансформации в практике и в понятии искусства; с другой — условия теоретического прогресса в познании бессознательного.
Наш метод останется при этом простым параллелизмом; забота о возможном пересечении параллельных серий возлагается на «функцию истины». Серии, в свою очередь, будут хронологическими, но не синхронными, и кроме того основанными на двойной шкале: ключевых моментов истории модернизма и ключевых моментов разработки теории психоанализа.
Этим подразумевается некоторый «переворот» в обычаях: считается, что весь понятийный и теоретический аппарат анализа — окрашенный, конечно, интерпретацией того, кто его использует, — прилагается к некоему произведению (или корпусу произведений, который называют творчеством, школой, стилем) и выявляет жизненные значения, вложенные в него индивидуальным или коллективным субъектом, художником или «эпохой». Наш призыв к параллелизму хронологий сводится к иному. Речь вовсе не идет о том, что «прогрессу» мысли Фрейда соответствует «эволюция» модернизма. Но очевидно, что, как только мы беремся сопоставить психоаналитическую теорию с современным ей искусством, эта теория перестает быть тем монолитным корпусом, который — при всех его противоречиях в идеологическом и даже научном плане — мы привыкли понимать под термином «психоанализ». Она должна рассматриваться и в своей диахронии, как последовательная разработка знания и как поиск истины, какой она была для Фрейда.
Речь, таким образом, идет о сочленении двух на первый взгляд несоизмеримых историй: с одной стороны, двух историй искусства — той, что разделяется между множеством соседствующих и следующих друг за другом индивидов, и той, что действует силами немногих решающих произведений, определяющих для современности, которая лежит в основе исторического понятия авангарда; с другой — двух историй разработки психоанализа —той, что совпадает (на первой своей стадии) с биографией одного человека, Фрейда, и той, которая периодически обращается к ряду фундаментальных догадок, являющихся для нее как точками сдерживания, так и зонами преобразования.
Разумеется, это сочленение нельзя назвать невинным: выбор сильных долей, то есть решающих произведений, в истории искусства — это выбор на основании случайных суждений, вынесенных апостериори, игнорировать которые невозможно. Подобным образом при выборе сильных долей в истории разработки Фрейдом психоанализа нельзя игнорировать современные интерпретации фрейдистской доктрины. Мы имеем дело с двумя трассировками и должны как можно точнее заявить место и время, откуда мы говорим. После этого никакое соотнесение двух историй не является обязательным — ни синхрония, ни единство ритмов. Поэтому дистанция аккомодации, позволяющая нам рассматривать их в качестве параллельных, ни в коей мере не требует постоянства; не исключено, что одну историю надо рассматривать в замедленном темпе, а другую —в ускоренном. В них обоих есть задержки и прорывы, «первичные сцены» и «последействия», как раз и образующие историю, не сводящуюся ни к прогрессу, ни к эволюции. И обе они имеют отношение к особого рода интемпоральности, присущей бессознательному. Параллельное рассмотрение сильных долей модернизма и фрейдов-
Ч
ской теории вовсе не подразумевает, таким образом, однозначного соответствия. В истории искусства сильные доли могут быть разнесены по достаточно длительному периоду или, наоборот, сосредоточены в одном произведении или серии. Те же, которыми отмечена разработка психоанализа, всецело обязаны своим появлением и упорствованием тому, что они вышли из самоанализа Фрейда.
Но какой может быть наиболее плодотворная область для эвристического параллелизма между искусством и формированием психоанализа в том, что касается их функций истины? Может ли основываться этот параллелизм на уверенности в том, что он принесет пользу познанию? Искусство и психоанализ, как кажется, разделяют то особое поле легитимации, которое для искусства предусматривал уже Кант и которое усилиями Фрейда проложило себе путь в практику «науки». Это не то поле, что подведомственно эпистемологии наук: правил внутренней связности и внешней соотносительности недостаточно, чтобы подкрепить как художественные, так и аналитические высказывания. Невзирая на все стремление Фрейда к научности, его основной вклад в знание заключается, возможно, в извлечении познавательного эффекта из особого рода высказываний (как, например, свободная ассоциация или рассказ сновидения), которые не подчиняются никаким априорным критериям, позволяющим специфицировать «вполне определенное выражение», но тем не менее порождают и выявляют подобные критерии апостериори, посредством приложения их к себе самим. Так, высказывание сновидения «вполне определенно», приемлемо для теории, если оно повинуется «правилам» сгущения и смещения, которые могли быть извлечены только из самого анализа сновидений. Такова же и формальная работа художника: она не может подчиняться предустановленным правилам, но и не обходится без правил. Она устанавливает правила тем самым движением, которым ставит эти правила под вопрос.
Кроме того, аналитические высказывания, в отличие от научных, не могут быть легитимированы существованием внешнего, эмпирического или экспериментального референта, который мог бы подтвердить их. Предмет анализа — называют ли его желанием или как-то иначе — по определению недоступен и не может быть привязан ни к какой реальности. И тем не менее именно по отношению к нему значимы высказывания анализанта в том смысле, в каком понимает их аналитик. Он выводится лишь из самого опыта субъекта или из той особой интерсубъектности, которая именуется трансфером. И опять-таки то же самое можно сказать о художественном опыте: его «реальность» субъективна и транс-ферентна, она всегда предъявляется (в том смысле, в каком предъявляют удостоверение личности) посредством рефлексивной операции, какою является эстетическое суждение.