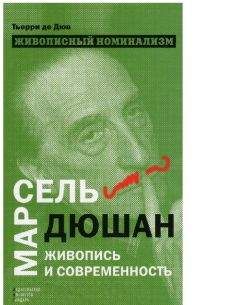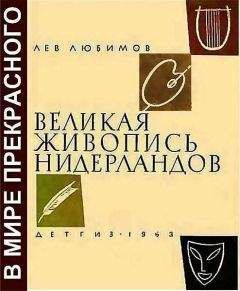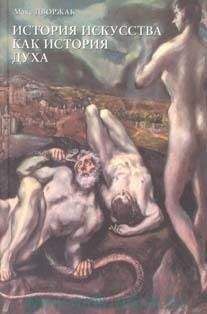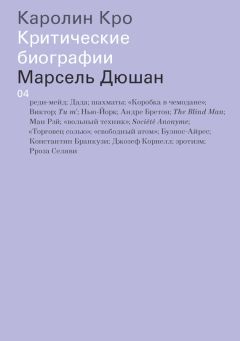Именно эта эпистемологическая общность оправдывает параллель между искусством и сновидением, которую я попытаюсь провести. Нетрудно понять, что такое решение вовсе не требует от меня прямой принадлежности к психоаналитической доктрине, как лакановской, так и фрейдовской. Как уже показал Жерве, Дюшан и Фрейд эпистемологически переводимы на языки друг друга, и для начала моего предприятия этого более чем достаточно. К тому же иной подход был бы самонадеянным, особенно если вспомнить картину трассировки фрейдовской теории, нарисованную Лиотаром, о которой я уже упоминал: перечисляемые в ней авторы — психоаналитики, и скорость устаревания их концепций связи между искусством и психоанализом очевидна. Поэтому я — человек посторонний, выступающий от имени истории искусства, предпочитаю воздержаться от каких-либо теоретических предпочтений в этой области: поскольку я не могу оценить психоаналитическое знание изнутри, такого рода предпочтение неизбежно было бы в моем случае проявлением веры, с точки зрения интеллекта непростительным.
В свете сказанного эпистемологическая общность, оправдывающая параллель, которую я попытаюсь провести, не оправдывает ничего, кроме самой этой параллели. Вопрошать произведение искусства подобно сновидению, изучать его так же, как изучают сновидение, значило бы уверовать в теорию в отрыве от метода. Сравнивать же тот или иной корпус произведений с тем или иным сновидением почленно значит свободно использовать все предоставляемые методом возможности, а к теории обращаться лишь в качестве катализатора. По окончании «химической реакции», сослужив свою службу, она в неприкосновенности удаляется восвояси.
Отсюда следуют два непосредственных вывода: важно, чтобы сновидение, которое будет почленно сравниваться с работой Дюшана мюнхенского периода, было сновидением Фрейда. Мои или ваши сны лишены всякого эвристического значения в рамках этого параллелизма, который с обеих сторон затрагивает «функцию истины», исполняемую искусством и сновидением в общей для них эпистеме. Этим значением обладают только сны Фрейда и только те из них, которые он взял на себя труд истолковать. Кроме того, это должно быть такое сновидение Фрейда — сновидение об инъекции Ирме, сновидение из сновидений, по словам Лакана,—эвристическое значение которого для фрейдовских исследований и стратегически важное место, занимаемое им в самоанализе великого психиатра, не нуждались бы в доказательстве.
Итак, мы последуем обычаю сравнивать искусство со сновидением — конкретное искусство с конкретным сновидением, произведения Дюшана, созданные в Мюнхене летом igi2 года, со сновидением об инъекции Ирме, приснившимся Фрейду ночью с 23 на 24 июля 1895 года и проанализированным в главе II «Толкования сновидений»11.
Наше прочтение этого сновидения будет трижды опосредованным. Во-первых, самим Фрейдом, который нам его сообщает — не его само, конечно, а рассказ о нем, этот единственный материал, с которым работало когда-либо толкование сновидений. Во-вто-рых, толкованием, которое Фрейд дает ему в главе II и к которому он возвращается позднее, чтобы извлечь из него некоторые теоретические выводы,—в частности, в главе IV, при обосновании сгущения. И, наконец, в-третьих, комментарием к этому сновидению, которое дает Лакан, завершая трассировку, имевшую для него смысл возврата к Фрейду, и которое под названием «Сновидение об инъекции Ирме» фигурирует во второй книге его «Семинаров»12.
Собственно говоря, именно последнее опосредование, по порядку являющееся пятым (самым первым была ночь, когда Фрейду приснился этот сон), будет для нас определяющим, поскольку оно по-новому прочитывает в наш исторический момент (или почти: ведь тексту Лакана вскоре исполнится тридцать лет) теоретические уроки предыдущих.
«Не будем продолжать толкование там, где прервал его Фрейд,—пишет Лакан,—но возьмем в совокупности сновидение и его интерпретацию. Тогда наша позиция будет отличной от позиции Фрейда»13.
Что же касается нас, то наша позиция отлична и от позиции Фрейда, и от позиции Лакана как в пространстве (я говорю как историк искусства), так и во времени (прошло тридцать лет14).
Рассказы
Прежде чем приступить к рассказу сновидения, за которым последует его анализ, Фрейд обычно делает предварительное сообщение о непосредственном биографическом контексте, содержащем указания на происхождение некоторых явных элементов сновидения. Таким же образом напрашивается и «предуведомление» к мюнхенскому периоду творчества Дюшана. Однако при сравнении художественной практики со сновидением очень нелегко решить, где кончается «предуведомление» и начинается «рассказ». Как я сказал, мое сравнение будет относиться к мюнхенскому периоду Дюшана. Выбор этого периода продиктован не методологией параллельного рассмотрения, а его стратегическим положением не только в жизни и творчестве Дюшана, но и шире в судьбе живописного модернизма; он подразумевает свободу варьирования дистанции по отношению к рассматриваемому материалу. Нужно будет, с одной стороны, принять в расчет весь «кубистский» период Дюшана, с другой — выделить в мюнхенском периоде ключевую, суммирующую его картину: «Переход от девственницы к новобрачной». Вот почему я не хочу проводить четкую границу между «предуведомлением» и «рассказом сновидения». Чтобы со всей строгостью следовать предпринятому мной почленному сравнению, надо признать, что мы не располагаем ни тем, ни другим. Должно ли «предуведомление» состоять исключительно из внеживописных элементов? Если да, то как получить доступ к ним, зная, что весьма опрометчиво доверяться биографиям, автором которых не является сам художник? Что же касается произведений, то к чему они, mutatis mutandis15, ближе — к «сновидениям», к «рассказам» (сновидений) или к «рассказам» уже истолкованным? Твердо разрешить эти вопросы невозможно ни теоретически, ни даже методологически. Но можно избрать прагматическую позицию, исходя из результатов, которые мы надеемся получить. Фрейд предлагает нам предуведомление уже с оглядкой на рассказ о сновидении и на истолкование, которое за ним последует. Предуведомление—это уже отобранная материалом сновидения часть автобиографии. И Дюшан тоже предоставляет нам подобные автобиографические фрагменты, отобранные его творчеством: я имею в виду интервью и комментарии, данные им о самом себе16. Разумеется, мы будем часто к ним обращаться, не отворачиваясь, впрочем, и от других источников, в первую очередь—от произведений. Ведь если трудно представить себе, чтобы одно сновидение толковало другое (хотя это и не исключается), то произведение искусства, напротив, всегда является интерпретацией как минимум одного другого произведения —того же художника или иного. Это обстоятельство делает историю искусства историей, которая толкует сама себя. Поэтому мы не будем проводить четкого различия между «предуведомлением» и «рассказом сновидения». Но начнем с восстановления — под общим заголовком «Рассказы» — краткой, одновременно событийной и интерпретативной, «пластической биографии», уже подвергнутой отбору параллельным рассмотрением «Перехода от девственницы к новобрачной» и сновидения об инъекции Ирме, которое будет проведено затем.
i6. Каноническим примером таковых является лекция Дюшана под названием «A propos of myself» («О себе»), прочитанная 24 ноября 1964 года в Сент-Луисе. См. ее французский перевод в кн.: Duchamp du Signe. Paris: Flammarion, 1975 (далее —DDS). P. 217-229.
Хотя Дюшан начал заниматься живописью довольно рано (первая известная нам его картина датирована 1902 годом, когда художнику было пятнадцать лет), лишь в 1911 году, когда он познакомился с кубизмом, эти занятия приобрели для него серьезное значение. До того он, как все, находился под влиянием импрессионизма и фовизма и относился к живописи с такой же беспечностью, как и к занятиям карикатурой или даже игре в бильярд. В 1910 году, на три года позже по сравнению с кубистами, он открывает для себя Сезанна и воздает ему дань восхищения, которая отразится в его творчестве лишь после того, как он за год — в 1911-1912 — пройдет через кубизм. Этой данью является «Портрет отца», подлинное, хотя и наивное, приношение Сезанну, а также портрет братьев, изображенных с женами в картине «Партия в шахматы».
В начале 1911 года художник приступает к картине «Соната», посвященной женской половине семейства Дюшанов: его матери и младшим сестрам Ивонне, Магдалене и (на заднем плане) Сюзанне —любимой сестре Марселя, на два года младше его. 24 августа того же года Сюзанна выходит замуж за фармацевта Шарля Демара, и вскоре Дюшан перерабатывает «Сонату» в стиле и колорите, впервые в его творчестве напрямую отсылающих к кубизму. Таким образом, «Соната» — поворотное произведение, особое место которого в «семейном романе» Дюшана придает ему решающую роль и в его карьере живописца. Вообще, рассматривая «кубистский» период Дюшана, нельзя не отметить, что он целиком и полностью является семейным делом, которое непременно должно касаться так или иначе воображаемого места, уделяемого художником себе между его отцом, провинциальным нотариусом, и матерью, дочерью живописца и художницей-любительницей, а также в кругу Двух его старших братьев (быстро снискавших признание художников-кубистов) и трех младших сестер, особенно Сюзанны, наиболее близкой к нему и тоже ставшей впоследствии художницей.