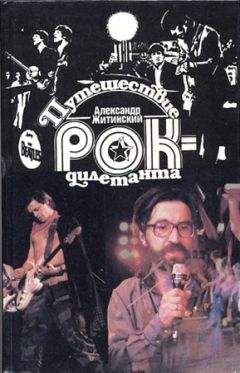Ознакомительная версия.
Как было бы хорошо, если бы в это утро рядом с ним была Барбара! Но он только раз после завтрака украдкой взглянул на нее, когда она не могла этого заметить, и, криво усмехнувшись, ушел один. Внизу, у ручья, все пестрело пятнами света, проходящего сквозь листву, было безветренно, тепло и вместе с тем прохладно; ветви деревьев смыкались над водой, среди множества камней образовались маленькие заводи, покрытые рябью, и не так-то просто было забросить муху. Лощина эта. заросшая кустарником, тянулась на многие мили среди теснящихся друг к дружке холмов. Ее облюбовали сойки; зато здесь было безлюдно, лишь в лачуге, соломенная крыша которой спускалась чуть не до земли, жила вдова фермера; она кормилась тем, что указывала дорогу горожанам, приезжавшим отдохнуть на лоне природы, да так ловко, что они вскоре возвращались к ней. напиться чаю.
Стараясь забросить удочку подальше, в затененный, покрытый мелкой рябью уголок, лорд Деннис вдруг услышал громкий шорох и треск – кто-то шел напролом сквозь кусты. Он слегка нахмурился: распугают всю рыбу! Нежданным гостем оказался Милтоун – разгоряченный, бледный, растрепанный, какой-то словно затравленный. При виде дядюшки он круто остановился и тотчас, как под маской, укрылся под своей обычной улыбкой.
Лорд Деннис был отнюдь не склонен замечать то, что для него не предназначено.
– А, Юстас! – сказал он только, словно встретился с племянником где-нибудь в лондонском клубе.
Милтоун не менее учтиво пробормотал:
– Надеюсь, я не спугнул вашу добычу.
Лорд Деннис покачал головой и отложил удочку со словами:
– Присаживайся, дружок, поболтаем. Ты ведь не рыболов?
Он прекрасно разглядел боль под маской Милтоуна; у него и сейчас еще был острый глаз, к тому же он и сам лет двадцать страдал из-за женщины теперь это была уже старая история – и для человека его лет на удивление чутко подмечал признаки страдания в других.
Милтоун ни от кого не принял бы такого приглашения, но было что-то в лорде Деннисе, перед чем никто не мог устоять; его суховатая, насмешливая учтивость заставляла каждого почувствовать, что ослушаться его было бы неслыханной, непозволительной грубостью.
Они сидели бок о бок на древесных корнях. Поговорили немного о птицах, потом умолкли, да так основательно, что, осмелев, невидимое население ветвей стало громко перекликаться. Наконец лорд Деннис прервал молчание.
– Этот уголок всегда напоминает мне Марка Твена, – сказал он. – Сам не знаю почему, разве, может быть, тем, что здесь всегда зелено. Люблю Твена и Мередита – вечнозеленых философов. Мужество – единственное спасение от всех бед, хотя «сильную личность» – повелителя своей души, вроде Хенли, Ницше и прочих, – я никогда не переваривал, эти мне не по нраву. А твое мнение, Юстас?
– У них были благие намерения, – ответил Милтоун, – но они против слишком многого восставали.
Лорд Деннис кивнул.
– Быть повелителем своей души! – с горечью продолжал Милтоун. – Недурно звучит!
– Очень недурно, – пробормотал лорд Деннис.
Милтоун покосился на него.
– И к вам подходит.
– Ну, нет, мой милый, – сухо сказал лорд Деннис. – Слава богу, ничего похожего.
Взгляд его был прикован к тишайшей, светлой заводи, где всплыла из глубины крупная форель. Полфунта потянет, не меньше! Мысли его лихорадочно закружились: какая из мух, наколотых у него на шляпе, тут самая подходящая? Руки так и чесались, но он не шелохнулся, и ясень, под которым он сидел, сочувственно зашелестел листвой.
– Смотрите, ястреб, – сказал Милтоун.
Прямо над ними, выше самых высоких холмов, повис в синеве ястреб-канюк. Удивленный их неподвижностью, он присматривался, не съедобны ли они; только раз дрогнули загнутые кверху кончики широко раскинутых крыльев, словно в доказательство, что обладатель их – живая частица гордого воздушного океана, символ свободы в глазах людей и рыб.
Лорд Деннис посмотрел на внучатого племянника. Мальчику (а кто же он, как не мальчик, если ему тридцать, а тебе уже семьдесят шесть?) – что бы там с ним ни случилось – очень и очень нелегко. Он такой – будет бежать, пока не упадет замертво. Таким труднее всего помочь, это злосчастная порода, из-за всего-то они мучаются! И перед мысленным взором старика предстал терзаемый орлом Прометей. Это была его любимая трагедия, он и сейчас время от времени ее перечитывал в подлиннике, заглядывая в старый греческий лексикон, когда значение какого-нибудь слова уносили воды Леты. Да, Юстас рожден для взлетов и падений.
– Ни о чем таком говорить тебе, должно быть, не хочется? – спросил он негромко.
Милтоун покачал головой, и опять наступило молчание.
Ястреб, увидев, что они зашевелились, медленно взмахнул крыльями, словно бабочка, и исчез. А вместо него с обросшего мхом, обрызганного жаркими солнечными пятнами камня на них смотрела любопытная малиновка. В том тихом заливчике снова плеснуло.
– Она выскакивает уже второй раз, – прошептал лорд Деннис. – Пожалуй, она клюнет на «Радость рыболова».
Он извлек из шляпы последнюю новинку, привязал к леске и начал тихонько раскачивать удочку.
– Сейчас подцеплю, – пробормотал он.
Но Милтоуна уже не было…
Новая подробность биографии миссис Ноуэл, уже известная Барбаре и сообщаемая местной газетой, стала достоянием обитателей Монкленда лишь после того, как лорд Деннис отправился удить рыбу. Одновременно выяснилось, что Милтоун вернулся из Лондона и тут же ушел, не позавтракав, и потому новость вызвала смешанные чувства. Берти, Харбинджер и Шроптон, наскоро посовещавшись, сошлись на том, что с точки зрения предстоящих выборов, пожалуй, это лучше, чем если бы миссис Ноуэл оказалась divorcee[1], но все же полагали, что нельзя терять ни минуты, – хотя, как тут следует поступить, они решить не могли. Совершенно не известно, как к этому отнесется Милтоун при его трудном характере, а сверх того, задача оказалась дьявольски запутанной, как всегда в тех случаях, о которых справедливо говорится: чем меньше слов, тем меньше вреда. Пред ними встала самая страшная угроза – угроза публичного скандала. Изложить голые факты, не подчеркивая вытекающую из них мораль (а блюсти правила морали обязаны все без исключения), изложить их просто как некие занятные сведения, либо – того хуже – в искренней уверенности, что избиратели не должны слепо голосовать за человека, чья личная жизнь боится гласности, – не правда ли, как все законно и естественно! И, однако, сторонники Милтоуна понимали, что это простое сообщение о том, где он проводит вечера, опасно, как спичка в пороховом погребе, ибо действует на ту область людского воображения, которую легче всего воспламенить. Они хорошо знали, сколь силен некий первобытный инстинкт, который правит миром, сколь трудно ему не покориться и сколь любопытно и увлекательно, особенно в глуши, видеть или слышать, как ему покоряются другие – и сколь это с их стороны предосудительно (хотя втайне, конечно, можно на это смотреть и по-иному). Сторонники Милтоуна слишком хорошо знали, как по душе придется кое-кому этот слух, как будут облизываться добродетельные ханжи. И знали также, как заманчива эта тема для читателей, наделенных хоть малой толикой воображения: представитель высшего общества, стало быть, человек, который не привык ни в чем себе отказывать, бывает у одинокой женщины! Как выразился Харбинджер, положение и впрямь до черта неловкое. Если отвечать на газетную заметку, еще больше народу поверит, что это чистая правда. А между тем она отравляет умы, это они чувствовали и по себе: тайный голос твердил каждому, что они и сами всему поверили бы, не знай они настоящей правды. И не решаясь что-либо предпринять, они в растерянности ждали Милтоуна.
Леди Вэллис встретила новость вздохом величайшего облегчения, но заметила, что это, вероятно, просто очередная выдумка. Когда же Барбара подтвердила, что газета не лжет, она сказала только: «Бедный Юстас!» – и тотчас написала супругу, что Незнакомка все еще замужем, а значит, самого худшего, к счастью, можно не опасаться.
Милтоун вернулся домой ко второму завтраку, но по его лицу и поведению ничего нельзя было угадать. Он был, пожалуй, чуть словоохотливей обычного и стал рассказывать о речи Брэбрука – часть ее он слышал. Он многозначительно посматривал на Куртье, а после завтрака спросил:
– Не заглянете ли ко мне?
Эта комната в елизаветинском крыле Монклендской усадьбы была когда-то гостиной, и ее заполняли гобелены, вышивки и молитвенники прекрасных дам, утопавших в кружевах и оборках; теперь их заменили книги, брошюры, дубовые панели, трубки, рапиры, а одну стену занимала коллекция, которую Милтоун вывез из Соединенных Штатов, – оружие и украшения индейцев. На этой стене надо всем царила бронзовая посмертная маска знаменитого вождя племени апашей – копия гипсового слепка, сделанного профессором Йэльского университета, который объявил покойного вождя идеальным представителем вымирающей расы. Лицо это, пугавшее странным сходством с Данте, словно накладывало на все в комнате отпечаток какого-то жестокого и трагического стоицизма. Взглянув на него, нельзя было не почувствовать: вот воплощение несокрушимой воли, дающей человеку силы вынести непосильное.
Ознакомительная версия.