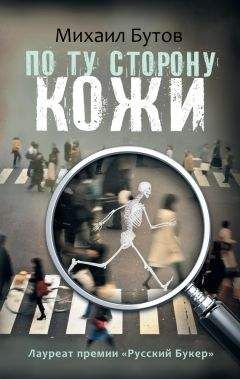Ленинграда, никому не говорил.
Заметив моё недоумение, профессор пояснил:
- Мы по профессии словесники. Вы говорите, как ленинградец.
Неожиданно для самого себя я стал рассказывать незнакомому мне человеку о себе, о
своей несчастной любви, об одиночестве, о непонимании себя окружающими.
- Послушайте меня, Михаил, - Сергей Венедиктович бросил папиросу в разгоревшийся
костёр.
- Я не призываю вас становиться толстокожим. Вы ещё очень молоды, душевные метания
ваши и порывистость естественны. Они характеризуют вас, как человека глубокого,
тонкого и, несомненно, талантливого. Чем сильнее чувства, тем ярче жизнь! Поиск своего
пути не может быть без ошибок, разочарований и страданий. Но при этом ни в коем случае
вину за свои неудачи нельзя перекладывать на других.
- Но позвольте, профессор: что же, всё-таки, каждый сам за себя?
- По большому счёту, да, Михаил! Каждый сам строит своё будущее. Вы на меня, ради
Бога, не сердитесь. Я сам - детдомовский. На моих глазах погибло и в прямом, и в
переносном смысле столько чудесных ребят и девчонок. И только по одной причине: они
искали виновных в своих бедах. Да, виновных полно, но нам с вами от этого не легче.
Сидеть в пивной и плакаться в жилетку собутыльнику – это тупик, путь в никуда. Если я
чего-то в своей жизни и достиг, то только благодаря тому, что учился на собственных
ошибках, - закончил профессор.
Меня подвезли на машине до самого Семиречья.
Глава 14
Когда экспедиционная машина подъехала к Семиречью, пробудившаяся от долгого
осеннего сна природа сладко потягивалась. Она позволяла себе немножко полениться,
понежится; но в предвкушении грядущих дневных забот уже готовилась сбросить
укрывающее землю стёганое росами и подбитое туманами одеяло и встретить один из
последних ясных тёплых деньков короткого здесь бабьего лета.
«Ну, вот - и дома!», - предвкушая встречу с друзьями, обрадовался я.
Ещё с улицы я заметил одиноко стоящий во дворе лесничества «Урал» Семёна. Пройти
мимо мотоцикла я не смог, постоял, любуясь мощной машиной, и любовно погладил его
лакированный бензобак. Двигатель ещё не успел остыть.
Из времянки через приоткрытую дверь послышались пьяные громкие голоса. И сразу же
зазвучали гитарные переборы, и нарочито грассирующий голос Володи пропел:
- Его я встретила на клубной вечериночке,
Картину ставили тогда "Багдадский вор".
Глаза печальные и чёрны лаковы ботиночки
Зажгли в душе моей пылающий костёр…
- Где-то уже гитару раздобыли, - почему-то мне стало неприятно.
Утреннее радужное настроение вмиг улетучилось: после романтической ночи на перевале
в компании красивых, умных и жизнелюбивых людей совсем не хотелось видеть пьяные,
отёкшие лица лесников. Не такой представлялась мне встреча с друзьями. Я надеялся, что
меня ждут, волнуются.
Заходить в накуренное помещение не хотелось, и я, вздохнув, присел на брошенную у
крыльца чурку для колки дров.
- Он очень быстро из девчонок делал дамочек.
Широким клёшем затуманивал сердца.
Не раз пришлось поплакать вместе с мамочкой,
Скрывать аборты от сердитого отца…
Отворилась обитая клеенкой дверь, и на пороге появился Сеня, красномордый и хмурый.
Он в сердцах плюнул себе под ноги – не по нраву, видать, пришлась ему песня - Сеня
вырастил двух дочерей…
- А, Михаил, привет!.. Приехал?.. Как рука? – довольно равнодушно поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, кивнул в сторону времянки:
- Гуляют ребята, сегодня на работу не поедем.
- Что с «Явой»? – поинтересовался я.
- Да здесь она, вон под навесом стоит… Фару придётся поменять. Крыло ещё можно
выправить, подкрасить. Ну, и колесо, конечно… Короче, рублей на сто пятьдесят ты попал.
Семён аккуратно (лесники панически боятся пожаров) затоптал окурок.
- Ну! Я погнал! «Моя» просит отвезти в город. Внучке что-то докупить в школу.
Через минуту Сеня выезжал на дорогу, по привычке не забыв попрощаться со всеми
заливистым лаем. Семён был, как стёклышко, в завязке, и оттого выглядел недовольным.
Во времянке, несмотря на утро, дым стоял коромыслом. За столом сидели Пахомыч,
Володя и Тимофей. Градус опохмела к этому времени достиг той самой неуловимой
грани, когда здоровье уже поправилось, а вялость и отупение от многодневной пьянки
ещё не наступило. Всем хотелось общаться, но, желательно, не вставая с места.
Меня пригласили за стол. Хлопая по спине, стали расспрашивать о травме, советовать, чем и как лечить больное плечо.
Пить я не стал, сославшись на головную боль. Сделав два больших бутерброда с
тушёнкой, налил большую кружку чая и скорее - к себе, на дальнюю от стола кровать.
- Бутылка вина - не болит голова, - затянул было Володя, но Тимофей шикнул на него, и
меня оставили в покое.
Перекусив, я прилёг на кровать. Сказалась нервная и физическая усталость.
Мужики гуляли, а я лежал, устремив неподвижные глаза в потолок. Сквозь дремоту до
моего слуха, как будто издалека, доносились голоса лесников:
- В Невельске полгода болтался в резерве, - рассказывал Володя.
- На судно опоздал по-пьяному делу… Ну, мне в кадрах и говорят: «Команды
укомплектованы, сидите, Смирнов, ждите, пока кто-нибудь из механиков не заболеет».
Каждый день мореманы или возвращаются, или уходят в рейс. То встреча, то проводы. Ни
одного трезвого дня…
- Он мне, когда, мол, за «рубки ухода» отчитаешься?.. А какая рубка, Володя?.. Ты сам
видишь: заморозки на носу, план по лесопосадкам горит синим огнём, людей нет… -
сокрушается Тимофей.
Ага - это Пахомыч рычит:
- Встал я на лыжах поперёк траншеи, гляжу, а там - бабы! Мать честная!.. Винтовки
побросали, мечутся.
Это он о финской компании.
- Кортик в руке скользит от крови. Перчатку сдёрнул, уронил… Да!.. Восемь девок
зарезал, молоденьких, до сих пор перед глазами стоят. Пальцы на рукоятке свело, не
разжать было… Взводный кортик из ладони выламывал.
Врет, наверное, хотя на правой руке у Пахомыча действительно не хватает трёх пальцев.
Я лежал в полузабытье, а перед глазами стояли необычайно далёкое чёрное с россыпью
звёзд небо, на бревне у костра - бородатый высокий парень с гитарой в руках, худенькая
белобрысая девчонка и пожилой сутулый профессор. Горький дымок костра щекотал
ноздри, а в ушах звучала грустная песня о людях, которые «идут по свету», хранят в своих
рюкзаках «самые лучшие в мире книги», зовут во сне любимых и «знают щемящее
чувство дороги».
*
Утром мужики уехали в тайгу. Тимофей долго курил, тихонько постукивая о клеёнчатую
поверхность стола полупустым спичечным коробком. На указательном пальце лесничего
отсутствовала одна фаланга. Спички брякали о коробку, а мы оба молчали. Наконец, с
силой загасив папиросу в пепельнице, Тимофей поднял на меня глаза:
- Михаил, ты пойми меня правильно: скоро выпадет снег, за лесопосадки с меня семь
шкур спустят, а какой из тебя теперь работник?.. Володя один не потянет.
Тимофей, хрустнув застуженными суставами, поднялся.
– Хочешь - не хочешь, а придётся брать ещё пару «бичей» на месяц. Поселю их сюда, не к
себе же домой мне их звать! – сказал, как поставил точку, Тимофей.
- Я так понимаю, лесничий, что мне пришла пора сваливать?
Оставленный Тимофеем в покое коробок хрустнул в моём кулаке.
- И кому я с порванными связками нужен?
- У меня план горит, - сверкнул глазами Тимофей. - Не будет плана – не будет премии! Ты
оклады наши знаешь?! У меня баба третий год сапоги зимние донашивает, детей в школу
собирать надо, - лесничий почти орал то ли на меня, то ли сам на себя.
- А лесники что мне скажут? – внезапно дав «петуха», Тимофей закашлялся и уже тихо, сиплым голосом, закончил:
- В общем, я тебе сказал, а ты понимай, как знаешь…
- Понятно: каждый за себя, значит?
Тимофей постоял несколько секунд, вращая бешеными глазами, и выбросил себя на улицу, так жахнув дверью напоследок, что с потолка мне на голову посыпалась труха. Тут же
заныл стартёр «козелка», взревел на повышенных оборотах запустившийся двигатель
машины, клацнула передача, и рокот мотора стал отдаляться…
Неторопливо встав из-за стола, я, как во сне, направился к стоявшей под навесом
сломанной «Яве».
- Значит, каждый за себя?! – не то спросил, не то ответил кому-то я.
Качнул мотоцикл и с удовлетворением услышал плеск бензина в баке…
- Каждый за себя, значит?..
Волнения я не испытывал, только усталость. Сдёрнув шланг со штуцера бензобака, я
открыл краник и сел на верстак, тут же под навесом. Первая затяжка показалась
необыкновенно вкусной, словно я не курил несколько дней. Я смаковал папиросу, будто со
стороны наблюдая, как тонкая бензиновая струйка сначала заполнила ямку в земляном