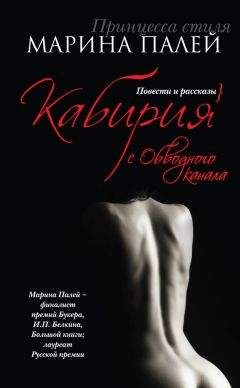Завидую Арлане: она даже не спотыкается там, где я непременно сломал бы себе шею. Взять, к примеру, эту её собачью работу. Она ведь не замечает, что словно бы заняла место той куаферши. Той самой, которая спихнула ее с подмостков. Будто незримый шахматист сделал этими фигурами короткую рокировку – роковую для Арланы. Прибавлю: и несколько необычную, ибо поменялись они не только позициями, но и функциями. Правда, фунты стерлингов, пачками падающие к ногам Арланы, отчасти компенсируют некоторый комизм в переключении ее сервиса с двуногих на четвероногих. Для меня это очевидно, а она, судя по всему, не замечает.
Ах, Эдгар, «очевидно»! Ты перечислил не всё: а тайский массаж? Не делай вид, будто забыл про тайский массаж! Для полноты сходства...
Попытки расслабиться бесполезны. У меня был один приятель, которого я считал самым чистым человеком в мире. Имею в виду: телесно чистым, в буквальном смысле, – я не моралист, чтобы определять градации чистоты нравственной. А считал я этого джентльмена таковым потому, что, когда бы я ему ни звонил, – его подруга оловянно чеканила: «Энтони принимает душ». Иногда я думал: может, у него такой остроумный автоответчик?..
Самое смешное: это был не автоответчик, подруга не лгала. Энтони жил в душевой. Да, именно там он и жил. А дело состояло в том, что эта подруга, то есть мегера из салона продажи Peugeot, имела вредную привычку его поколачивать. Он, скорее всего, именно за это ее и любил (такое бывает нередко), хотя, как я думаю, не отказался бы от передышки. И вот таковая, то есть передышка, у него бывала только под сенью душевых струй. (Ванной они не располагали.) Подруга в душевую не входила: это была его территория.
Однако стоило ему оттуда выйти – тут уж она, слово за слово, еще даже до самой перебранки, словно бы профилактически, снова бралась его поколачивать. Он – снова отступал в душ. От таких почти безостановочных «расслаблений» кожа у него стала белая, бледная, как у погребного гриба-поганки – или лягушки-альбиноса – или гаремной невольницы – кому что больше нравится.
Но эту подоплеку я узнал уже после того, как он поехал на какой-то из островов Лох-Ломонда, в пикантный отель для полного расслабления – а тело его выловили из лох-ломондского озера только через пятеро суток.
Расслабился, стало быть, окончательно. Так и тянуло его к водной стихии! (А что – ко всяким там нимфам и амфитритам...) Или помогли до нее, до водной стихии, наконец дотянуться? А его стерва упорхнула с каким-то темным (во всех отношениях) дельцом в Южную Африку: замуж. (При слове «замуж» Арлана всегда презрительно напрягает свои точеные ноздри: заму... му-у-у-у-у-у... мы-ы-ы-ы-ы-ы... м’э-э-э-э-э-э... б’э-э-э-э-э-э...)
Пойти, может быть, в душ?.. Джой, прекрати беситься! Стоп, я сказал!
Выражаясь в духе Евангелия, совлечем с себя земные одежды. Включая сюда и последний покров, скрывающий снедаемые похотью чресла. Ну и что? Что же мы видим в зеркале? Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда... Если бы Арлана принадлежала хоть к одной из этих женских конгрегаций!
А откроем-ка мы вот эту коробку... «Pure relaxing» – подарила ее мне она же... Набор состоит из четырех штучек.
Штучка первая. Уютная, желтая, словно уточка, баночка из гладкого пластика. Молочко для тела: «Massage from heaven». Внутри: белая, нежная масса, словно густая сперма высокосортных доноров. Бр-р-р... Не будем читать, Эдгар, из чего, собственно, это молочко состоит: напечатано мелко-премелко, да и не веришь ты всё равно ни единому слову. Просто плеснем молочка в ладонь – из ладони – на плечи... на грудь... По запаху вроде бы яблочный сидр... что еще? вишня, банан, манго...
Теперь: «Summer rain»... Приятная для ладони коробочка... Relaxing shower gel... gel douche relaxant...
Хватит. Пойду пообщаюсь с monsieur Gautier. Это не Theofile (языческой эротикой Теофиля Готье зачитывался – и вконец зачитался – мой бедный, мой всегда сексуально несытый отец) – и ясней ясного, что это не Jean-Paul – хотя бледно-голубая юбка его марки так женственно-нежно струится в платяном шкафу Арланы. Gautier – это единственный из коньяков, с которым я чувствую соприродность. Хотя мои мозги не выключает и он... Джой, хочешь тоже глоточек?..
Половина девятого. Ты же недорелаксировал, Эдгар!..
...Сделаем душ приятно-прохладным. Да, стало быть, «Summer rain»... Summertime... ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Summer rain... Ла-ла-ла-ла-ла-ла...
Арлана терпеть не может, когда я пою. Особенно если я пытаюсь напевать ее любимые блюзы. Сейчас, будь она дома, яростно заколотила бы в дверь...
Relaxing shouwer gel... gel douche relaxant... Пахнет медом и млеком... Но аромат Арланы лучше... разве можно сравнить... У нее – в ее щедрых подмышьях, густых и мокрых, – когда мы терзаем друг друга долгим, кровавым, изнурительным совокуплением – пахнет горячим, домашней выпечки хлебом... У нее – старомодно выражаясь, в межножье – так царствен этот резкий запах грубо убитой рыбины... табачной слюны... острого солдатского пота... Пронзительная и вожделенная вонь, швыряющая меня в бешенство. Разверсто черное вместилище... словно порочный рот – застывший в крике муки, пощады... в жажде влажного поцелуя... Сырым ароматом могилы оттуда у нее тянет...
Самое смешное... Вот, например, исчезни она (Господи, я этого не говорил! и даже не думал, не думал! – это я так, к примеру) и кинься я, скажем, в полицию... как опишу ее? Разве что собакам-ищейкам предъявлю орхидейный и вместе звериный запах ее бюстгальтера?
А что скажу – этим, в форме?!
От этой мысли у меня, как на морозе, пересыхает горло. Резко поворачиваю ручку в сторону «горячо».
Что я знаю о ней? Ничего. Фоторобот? Записывайте, господин констебль: глаза у нее васильковые, цвета морской волны, майской травы, звезды волхвов, шотландского вереска, лапландского мха, смарагда из копий царицы Клеопатры, кладбищенской хвои... Да-да, господин констебль, так и записывайте: балтийского янтаря, цветочного меда, лесного ореха, сосновой коры, молодой кожуры баклажана... (Убери руку с детородного органа, Эдгар... Не возбуждай себя попусту... пригодится... Ха! Пригодится!..) Волосы – блестящие, густые и гладкие, словно мех ценнейшего пушного зверька – такого, знаете ли, с острыми-острыми зубками. Длина этой гривы – аж до середки виолончельных чресел... Короткие волосы – только если она надевает парики... Их у нее добрая дюжина... Вон и сейчас, мне видно сквозь открытую дверь душа... пьяный кот страстно когтит какой-то пепельно-сивый ее парик... Джой, прекрати! Стоп, Джой, стоп, я сказал!
Цвет волос своих, естественных, у нее опять же разный... зависит от освещения... настроения... времени года... магнитных и прочих бурь...
Бобби, нахмурившись, подумает, как пить дать, что я поэтизирую. Ишь ты, лорд Джордж Гордон Байрон и Перси Биши Шелли в одном лице!
Но я излагаю факты – ничего, кроме фактов!
Ее оборотничество... А вы, господин констебль, – вы никогда не встречали оборотней?
Оборотней?
И вот, допустим, что расскажет констебль:
«...Она походила на гибрид курицы с болонкой. Когда состраивала кокетливую улыбку, сходство усиливалось. Старая курица, старая болонка. Она говорила много, игриво, ни о чем, любила украшать ручеёк своей речи нарядно-картавыми, очень двусмысленными, французскими фразочками. Ее звали Эва-Мария Кнезинска – польский гонор, актерка погорелого театра, всё в прошлом. А я в те времена, десять лет назад, был сильно отвлечен, точней, увлечен некой недоступной особой. Среди созвездия актрис и актеров, сверкавшего на стене театрального холла, лицо этой недоступной особы было самым центральным в пятом ряду. Она, сукина дочь, была заснята в этакой ковбойской шляпе, льняная пряжа волос – по самые локотки, лисий носик словно гарантирует своей обладательнице вечную молодость, глаза – близко поставленные, невинные, наглые. Я даже не делал попыток узнать (скажем, у администратора) имя и телефон этой Лисички, как я ее для себя прозвал, потому что всю жизнь верил в случай.
Однажды вечером я сидел подшофе в холле этого театрика, почти засыпал, когда мне показалось, что Лисичка не то чтобы мне подмигивает, а словно подает какой-то знак...
Я чуть не свихнулся.
Подошел к стене, но не решился снять сразу ее фотографию – взял снимок из нижнего ряда...
Перевернул...
На белой наклейке были отчетливо напечатаны имя и фамилия актера... Да, напечатаны – очень отчетливо... У меня вмиг так ослабли руки, что я не мог повесить снимок обратно, но зато, вставая на стул, чтобы снять ее фотографию, я уже знал, что подобные снимки делаются на специальной бумаге – такой, где краски не меркнут лет тридцать – и что, перевернув изображение Лисички, я, стараясь не вздрогнуть, прочту: Эва-Мария Кнезинска».