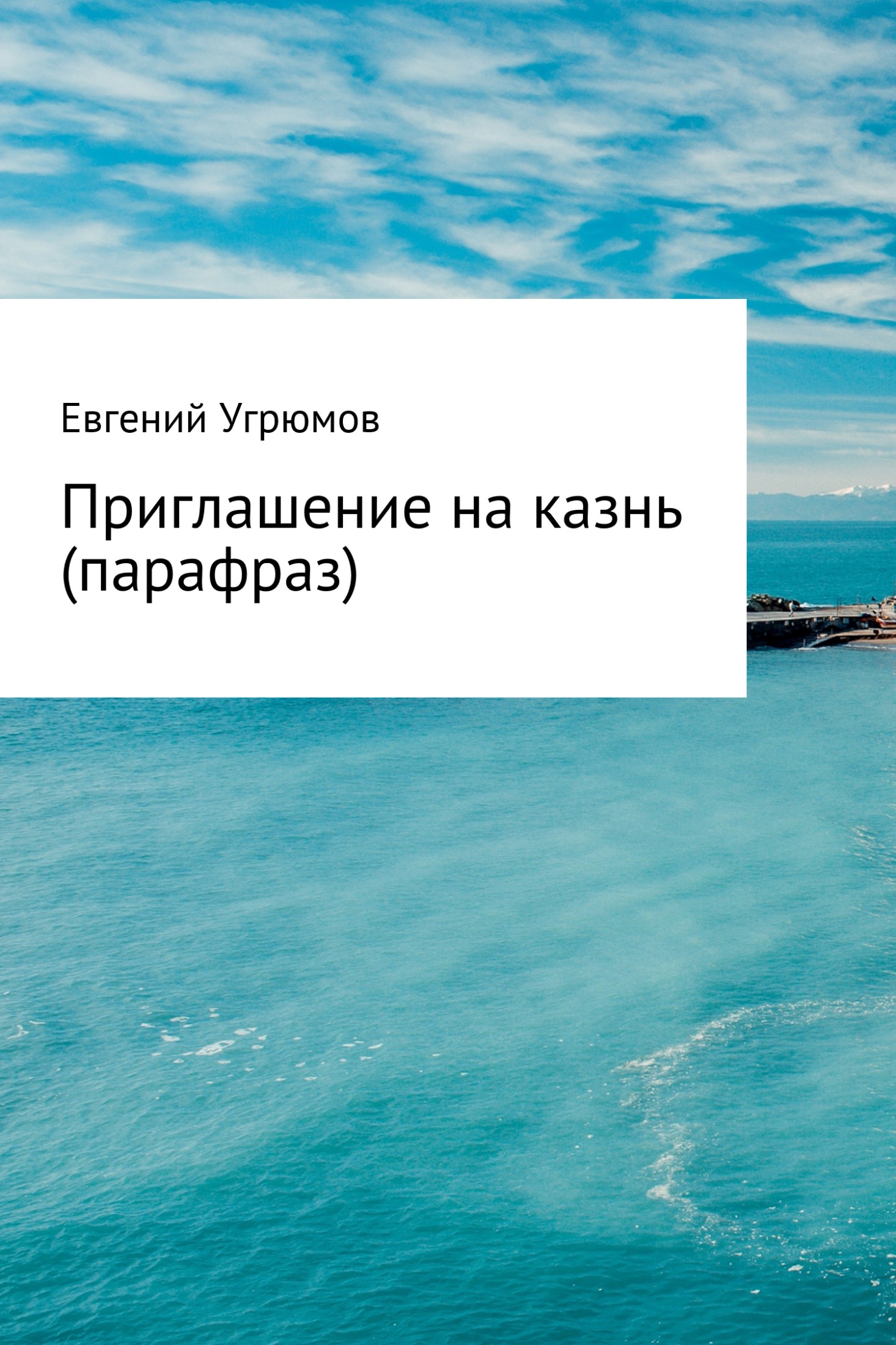видел без ума
влюблённый (как будто можно быть влюблённым не без ума).
Минутная стрелка, на часах городской администрации, рассталась наконец с
последней минутой последнего часа суток. Пробили куранты, чтоб после них
наступила тишина; та тишина, которую потревожила, тихонько скрипнув, дверь,
чтоб напугать затрепетавший воздух, чтоб тот подвигнул Эраста оглянуться и
прошептать «…неужели?», чтоб это стало репликой для осветителя, чтоб
помигать Луной, чтоб, в свою очередь, это стало причиной беспокойства,
охватившего господина с зонтиком на веранде, и чтоб произошёл ещё ряд
событий, о которых сейчас и пойдёт речь.
Но прежде о машинистах и декораторах. Всё же они важные действующие
лица в нашей драме и не уделить им внимания, всё равно, что не заметить
высокого порога, входя в дом. Потом – у них есть даже слова в нашей драме…
помните: «Трудились, трудились…».
Сцена в сцене
1Пролезать, прокрадываться (лат.).
71
О машинистах и декораторах устраивающих вместе с радистами и
осветителями, и костюмерами особые эффекеты, особо действующие на
воображение зрителя.
Сбылась в полной мере, сбылась мечта капельмейстера и сумасшедшего
музыканта, par exelence1, Иоганнеса Крейслера. Любознательного читателя я
отсылаю на страницы ироничной «Крейслерианы», чтоб в полной мере постичь
замысел великого, непревзойдённого знатока театральной – не только музыки,
но и машинерии, и всяких осветительских, и, вообще, сценических эффектов,
который словами своего Иоганнеса напророчил пророчества, которые в наше
время, по большом происшествии лет, осуществляются таким изощрённым
манером, что даже ему, великому и непревзойдённому, не могло такое прийти в
голову. Что там та выдвижная кулиса, с написанной на ней великолепной
блистающей бальной залой, которая въезжает вдруг углом на сцену как раз
тогда, когда должна въехать мрачная темница: «в мрачной темнице…
примадонна, в трогательнейших звуках, жалуется на заточение»? Или
«фальшивые софиты и выглядывающие сверху промежуточные занавесы»
вместо падуг с кронами райских дерев? Или хлопок дверью, призванный
изобразить выстрел из пистолета, и произведённый уже после того как артист
нажал на курок и уже после того как сказал «осечка! осечка! осечка!», как
откинул уже, якобы некачественный пистолет и вынул из ножен саблю, чтоб
всё-таки добить своего заклятого vis-a-vis, что требовалось по ходу пьесы? Всё
это лишь шутки, возвращающие доверчивого зрителя, на время, из театральных
иллюзий в нетеатральные, всё это лишь суррогат, который доставляют
машинисты острословам и сочинителям игривых анекдотов – эрзац, обман…
Но потом эрзац и обман станет главным и тем, самым важным, о чём будут
вспоминать, и о чём будет обмениваться шаловливыми мнениями доверчивая
публика, совсем забыв, что дело было совсем не в том…
…а в чём?
Как ещё Ромео может любить Юлию, чтоб в уже полтыщи лет идущей на
сцене пьесе зритель увидел какую-нибудь новую повесть – повесть ещё
печальнее, чем та, «печальнее которой нет на свете», и есть ли она – новая?..
более печальная или менее?.. Какую ещё можно изобразить ревность (в
спектакле «Отелло», например), чтоб зритель сказал: Не-е-т, такой ревности я
не видел… это какая-то не такая ревность – будто ревность может быть «не
такая». И убийцы – всё остаются убийцами, и жадины, хоть одному хочется
много, а второму ещё больше – всё те же жадины и подлецы–и во все времена
были подлецами, и такие же они в следующем спектакле, как и в
предыдущем… А что тогда делать зрителю в театре? Зачем тогда ходить в
театр? Чтоб в очередной раз увидеть то, что уже перевидано?.. Или, чтоб
забыться в театральном изумлении? Вот тут-то и приходят на выручку верные
театру машинисты и рабочие сцены. Вот тут-то и начинает сказываться
1Прежде всего (лат.).
72
непреходящее значение всяких неожиданных побочных эффектов, которые с
такой лёгкостью устраивают они, поддерживаемые с энтузиазмом весёлым
цехом радистов, осветителей, костюмеров, гримёров – то штанкета упадёт, то
прожектор взорвётся, то совсем вырубят свет, то совсем не вырубят свет, когда
это так надо, надо, чтоб поменять декорации, и декорации тогда, гремя и
скрипя, будут меняться прямо на глазах (это особый приём, чтоб зритель не
забывался). То нос отпадёт, то ус отклеится, парик съедет, пуговица оторвётся,
люк не откроется, люк не закроется, то вместо радостной весёлой песни из
динамиков польётся ещё более радостная, но из другого спектакля, и актёры
замрут от такой неожиданной импровизации, и сами начнут импровизировать и,
в конце концов, приведут любого Отелло к такому финалу, в котором его не
узнает и самый заядлый театрал, да что там театрал – мэтр Уильям Shakespeare
порадуется такой развязке из своего издалека. Вот вам и новость! Вот и
изумление! Но и это – не то! Такое устраивали и во времена Крейслера – чтоб
зритель не очень-то впадал в фантазии, чтоб не очень-то разыгрывался в
разыгравшемся воображении, в мареве, которое навеял ему художник. Сегодня
же, сам художник (вот чего не ожидал непревзойдённый знаток!) всеми силами
своего умения разбивает иллюзию и стирает любую театральную границу (так
называемую «четвёртую стену», как её остроумно назвал реформатор
сценического искусства) между подмостками и reality, и не даёт зрителю
«забыться в театральном изумлении». Театральный человек, конечно, уже понял
куда я веду: приходишь на «Ричарда (Глостера)», например, а там танки на
сцене, и сам Ричард: «Коня, коня! Корону за коня!» – в генеральском мундире
времён Пиночета Угарте Аугусто уезжает со сцены на танке.
Или читатель, например, читает, читает, уже весь погружён в сиреневую
мятель – а тут тебе скобка, тут тебе сноска или ещё хуже – размышления о роли
машиниста в театре и в жизни.
«И приколется обломившийся и oбломится приколовшийся»1.
Сцена четвёртая
О лунном затмении, резонном замечании гофмановской старухи, о
зёрнышке в земле и о Господине Кабальеро, который сражался за Любовь.
И вот уже в который раз: скрипнула дверь, испугался воздух, сказал
«неужели» Эраст, занервничал Кабальеро с зонтиком на веранде, и в сиреневую
ночь, разбуженная зовом, который вместил в себя и Землю, и Небо, и всех
богов, и всю Вечность, вышла Лиза.
Теперь в мире стало две Луны, или две Селены, или две Дианы, как хотите,
и обе сияют вовсю, застят глаза околдованному Эрасту, превращают всё вокруг
в миражи в пленительные картины, тающие друг в друге, а если хотите – таящие
1Из собрания современных афоризмов.
73
одна в себе другую. Одна Луна спустилась с крыльца, вторая, спряталась за
дымовой трубой (лунное затмение); одна – Диана – села на скамейку, вторая –
Селена – снова показала личико (сиреневый переполох – куст вспыхнул
огоньками, которые на