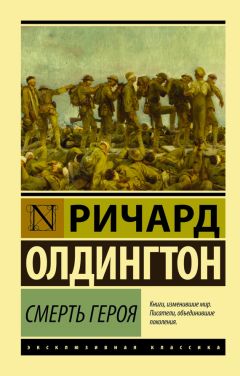После этого мистер Уинтерборн каждое утро и каждый вечер тратил на молитву на десять минут больше прежнего, так как молился о спасении души Джорджа. Но, к несчастью, однажды он, погруженный в размышления о блаженном мученике отце Парсонсе и еще более блаженном мученике отце Гарнете, герое Порохового заговора, переходя мостовую у самого входа в Хайд-парк, попал под колеса. Пяти фунтов хватило ненадолго, и больше некому было молиться о спасении души Джорджа; так что, насколько известно святой римской апостольской церкви и насколько сие от нее зависит, бедняга Джордж пребывает в аду и, надо полагать, там и останется. Впрочем, последние годы его жизни были таковы, что он, вероятно, и не заметил разницы.
Так принял смерть Джорджа его отец. «Реакция» матери (как это называют психологи) была несколько иная. Миссис Уинтерборн на первых порах нашла, что это событие очень возбуждает и подстегивает, особенно в смысле эротическом. Эта женщина обожала драмы и всю свою жизнь разыгрывала как драму. Она жаждала быть в центре всеобщего внимания, точно какой-нибудь итальянский офицер, ей необходимо было, чтобы ею восхищались все без разбору. В доме у нее удерживались дольше месячного испытательного срока только те слуги, которые готовы были пресмыкаться перед нею и не гнушались самой грубой лестью, превознося каждый ее шаг, каждое слово, каждую прихоть, ее наряды и безделушки, ее друзей и знакомых. Но миссис Уинтерборн была необыкновенно капризна и сварлива, так что ее друзья-приятели то и дело становились ей врагами, а заклятые враги неожиданно оказывались ее не слишком искренними друзьями, – поэтому от корыстных наемников, оставшихся верными ей только ради прибавки жалованья или подачек, которыми она вознаграждала особенно удачную лесть, требовались такая гибкость и такт, каким позавидовал бы любой дипломат.
Миссис Уинтерборн была уже вполне зрелая матрона, однако она предпочитала воображать себя очаровательной семнадцатилетней девушкой, страстно любимой пылким и неотразимым, точно шейх, но притом, конечно же, «чистым» (чтобы не сказать «честным») молодым британцем. Она так и сыпала мнимореволюционными фразами, «подрывающими основы» семьи и собственности (в этом стиле разглагольствуют нередко «просвещенные» служители церкви), а в сущности, это была самая заурядная мещанка, напичканная предрассудками, жадная, скупая и злобная. Как всякая мещанка, она угодничала перед теми, кто занимал лучшее положение в обществе, и помыкала стоящими ниже. Рамки мелкобуржуазной морали, естественно, делали ее лицемеркой. В игривые минуты (а она очень любила резвиться, совершенно не понимая, насколько это ей не к лицу) она охотно намекала, что способна «нарушить все запреты». А в действительности бурные порывы сводились к тому, что она с удовольствием выпивала, была лжива и сварлива, нечистоплотна в денежных делах, с азартом билась об заклад и заводила интрижки с нагловатыми молодыми людьми, которых только при ее романтически буйном воображении можно было именовать «чистыми и честными», хотя, без сомнения, они были истинными англичанами и, разумеется, славными малыми – более или менее нагловатого типа.
Она столько сменила этих чистых и честных молодых шейхов, что даже бедняга Уинтерборн совсем запутался – и когда принимался за очередное драматическое послание, начинавшееся неизменно словами: «Сэр! Похитив у меня привязанность моей жены, вы поступили как мерзкий пес, – да не будут эти слова истолкованы в нехристианском духе…» – письмо это, как правило, было обращено к шейху прошлому или позапрошлому, а не к тому, кто пользовался ее благосклонностью в данное время. Однако увещевания, непрестанно появлявшиеся в дни войны на страницах газет и журналов, а главное – опасность из зрелой матроны превратиться в перезрелую, настроили миссис Уинтерборн на серьезный лад, и с безошибочным чутьем она мертвой хваткой вцепилась в Сэма Брауна – вцепилась и уже не отпускала несчастного до конца его дней (конца безвременного, который она же и ускорила). Что и говорить, Сэм Браун был безупречен – такое встречается только в сказках. Если бы я не видел его своими глазами, я бы в него просто не поверил. Это был оживший – вернее, отчасти оживший – стереотип. Представление о жизни у него было самое примитивное, едва ли достаточное для четвероногого, и мыслительными способностями природа наделила его крайне скупо. Это был великовозрастный бойскаут, приготовишка в блистательной броне – в броне тупоумия. Все в жизни он воспринимал и оценивал по готовой формуле, – что бы ни случилось, а соответствующая, заранее предусмотренная формула всегда найдется. Итак, хоть и не достигнув особо высоких степеней, он, в общем, преуспевал, благополучно скользил по укатанным дорожкам где-то на втором плане. Если его к этому не вынуждали, он никогда сам не заговаривал о том, что был ранен, награжден орденом или о том, что уже 4 августа пошел в армию добровольцем. Словом, скромный, воспитанный и прочая и прочая английский джентльмен.
На случай, когда умирает сын замужней любовницы, формула предписывала суровую мужественность и нежное сочувствие, целительное для ран материнского сердца. Миссис Уинтерборн сперва не выходила из роли – пылкий, но нежный Сэм Браун всегда настраивал ее на лирический лад. Но, как ни странно, смерть Джорджа пробудила в ней прежде всего чувственность. На многих женщин война повлияла именно так. Смерть, раны, кровь, жестокость – всё на безопасном расстоянии – подхлестывали и возбуждали их, разжигали их пыл до предела.
Разумеется, в эти нескончаемые годы, 1914–1918-й, женщины поневоле вообразили, что смертны одни лишь мужчины, а им даровано бессмертие; и они, новоявленные гурии, старались обольстить каждого попадавшегося под руку шейха, – вот почему их так привлекала «работа на оборону» с ее широкими возможностями. А кроме того, еще и первобытный физиологический инстинкт подсказывал: назначение мужчины – убивать и быть убитым, назначение женщины – рожать новых мужчин, чтобы все продолжалось в том же духе. (Правда, этому нередко мешает наука, ибо она идет вперед, а именно – создает противозачаточные средства, за что ей великое спасибо.)
Итак, не удивляйтесь, что волнение миссис Уинтерборн, вызванное смертью сына, почти немедленно приняло эротическую окраску. Она лежала на кровати в пышных белых панталонах с длиннейшими оборками и в целомудренной, но необычайно нарядной сорочке. Сэм Браун, сильный, молчаливый, сдержанный и нежный, смачивал ей лоб одеколоном, а она большими глотками все чаще прихлебывала коньяк. Разумеется, приличия требовали, чтобы к ее горю относились с уважением, и это было даже приятно, а все-таки… лучше бы Сэма не приходилось каждый раз подталкивать на первый шаг. Неужели он не видит, что ее нежная натура нуждается в утешении, в капельке Истинной Любви – и притом сейчас же, сию минуту?
– Я его так любила, Сэм, – тихо молвила миссис Уинтерборн с искусно сделанной дрожью в голосе. – Я была совсем девочкой, когда он родился, – детка с деткой, говорили про нас, – и мы с ним росли вместе. Я была такая юная, что еще два года после его рождения ходила с косичками.
(Уверения миссис Уинтерборн относительно ее непреходящей юности были так шиты белыми нитками, что не обманули бы даже читателей «Джона Бланта», – но все шейхи попадались на эту удочку. Бог весть что они думали – воображали, должно быть, что Уинтерборн «оскорбил» ее, когда ей было десять лет.)
– Мы с ним были неразлучны, Сэм, мы были настоящими друзьями, и он никогда ничего от меня не скрывал.
(Бедняга Джордж! Он терпеть не мог свою мамашу, за последние пять лет своей жизни он и пяти раз с нею не виделся. А уж насчет того, чтобы с нею откровенничать, – куда там, самый простодушный из простодушных дикарей тотчас заподозрил бы, что она привирает. Когда Джордж был еще мальчиком, она снова и снова так подло предавала его, что он наглухо замкнулся в себе и уже не мог довериться ни жене, ни любовнице, ни другу.)
– А теперь его больше нет… – Тут в голосе миссис Уинтерборн зазвучали столь недвусмысленные призывные нотки, что даже бестолковый шейх заметил это и ощутил смутное беспокойство. – Теперь его уже нет, и у меня остался только ты, Сэм, в целом свете только ты один. Ты слышал, как этот низкий человек сегодня оскорбил меня по телефону. Поцелуй меня, Сэм, и обещай, что ты всегда будешь мне другом, настоящим другом!
Формулой поведения шейха не предусмотрено было в этот день заниматься любовью; скорбящую мать полагается утешить, но «святость» ее материнского горя недопустимо осквернять плотской близостью, – хотя и эта близость между истинным англичанином и «безупречной» женщиной, у которой только и было что муж да двадцать два любовника, тоже странным образом оказалась «священной». Но где уж всем сэмам браунам в мире устоять перед несокрушимой волей таких вот миссис уинтерборн – и особенно перед их волей к совокуплению! И он – да будет позволено так выразиться – возвысился до требований момента. И он тоже испытал странное, извращенное наслаждение, нежничая и занимаясь любовью над свежим трупом; а между тем будь он способен пораскинуть мозгами, он понял бы, что миссис Уинтерборн не только садистка, но и некрофилка.