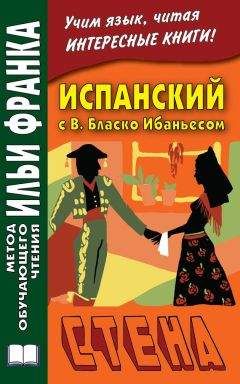Но донъ-Фернандо отрицательно покачалъ головой. Его любовь къ медицинѣ, хотя и безпорядочное, но обширное чтеніе во время долгихъ годовъ тюремнаго заточенія, постоянное общеніе съ бѣднотой – всего этого было достаточно, чтобы онъ при первомъ же взглядѣ распозналъ болѣзнь. Это была чахотка, быстрая, жестокая, молніеносная, чахотка въ формѣ удушенія, страшная гранулація, явившаяся вслѣдствіе сильнаго волненія истощеннаго организма, открытаго для всякихъ болѣзней, и жадно впитавшаго ее въ себя. Онъ окинулъ взглядомъ съ ногъ до головы это исхудалое тѣло столь болѣзненной бѣлизны, въ которомъ, казалось, кости были хрупкія, какъ бумага.
Сальватьерра шопотомъ спросилъ о ея родителяхъ. Онъ угадывалъ отдаленный отзвукъ алкоголя въ этой агоніи. Тетка Алкапаррона запротестовала.
– Ея бѣдный отецъ пилъ какъ и всѣ, но это былъ человѣкъ, отличавшійся необычайной силой. Друзья называли его Дамахуанъ. Видѣли ли его пьянымъ?… Никогда!
Сальватьерра сѣлъ на обрубокъ пня и печальными глазами слѣдилъ за ходомъ агоніи. Онъ оплакивалъ смерть этой дѣвушки, которую видѣлъ всего лшнь разъ – несчастный продукть алкоголизма, покидаюіщй міръ, выкинутый изъ него звѣрствомъ опьянѣнія въ ту ночь.
Бѣдное существо билось на рукахъ у своихъ родныхъ въ ужасахъ удушья, протягивая руки впередъ.
Казалось, передъ ея глазами носится туманъ, умалявшій ей зрачки. He имѣя подъ руками другого лекарства, старуха давала ей пить и вода шумно вливалась въ желудокъ больной, точно на дно сосуда; она ударялась о парализованныя стѣнки пищевода, производя звукъ, будто онѣ были изъ пергамента. Лицо бѣдняги теряло общія свои очертанія: щеки чернѣли, виски вдавливались, носъ вытягивался, роть судорожно сводился страшной гримасой… На землю спускалась ночь и въ людскую стали входить поденщики, а женщины, молчаливо собравшись поблизости оть умирающей, стояли опустивъ головы, сдерживая свои рыданія.
Нѣкоторые ушли въ поле, чтобы скрыть свое волненіе, въ которомъ была и доля страха. Іисусе Христе! Воть какъ умираютъ люди! Какъ трудно разставаться съ жизнью!.. И увѣренность, что всѣмъ предстоить пройти черезъ ужасную эту опасность, съ ея судорогами и тяжелыми муками, заставляла ихъ считать сносной и даже счастливой жизнь, которую они вели.
– Мари-Кру! – Голубонька моя! – вздыхала старуха. – Видишь ли ты меня? Всѣ мы тутъ около тебя!..
– Отвѣтъ мнѣ, Мари-Кру! – умолялъ Алкапарронъ, всхлипывая. – Я твой дводородный братъ, твой Хосе Марія…
Но цыганка отвѣчала лишь только тяжелымъ хрипѣніемъ, не открывая глазъ своихъ, сквозь неподвижныя вѣки которыхъ виднѣлась роговая перепонка цвѣта мутнаго стекла. Въ одномъ изъ сдѣланныхъ ею судорожныхъ двяженій она обнажила изъ-подъ кучи лохмотьевъ маленькую, исхудалую ножку, совершенно почернѣвшую. Вслѣдствіе неправилънаго кровообращенія кровь скоплялась у нея въ оконечностяхъ. Уши и руки тоже почернѣли.
Старуха разразилась сѣтованіями!.. To именно, что она говорила! Испорченная кровь; проклятый испугъ, не вышедшій изъ нея и теперь, съ ея смертью, распространяющійся по всему ея тѣлу. И она бросалась на умирающую, и цѣловала съ безумной жадностью, точно кусая, чтобы вернуть ее къ жизни.
– Она умерла, донъ-Фернандо! Развѣ ваша милость не видитъ? Она умерла…
Сальватьерра заставилъ старуху умолкнутъ. Умирающая ничего уже не видѣла, перерывы болѣзненнаго ея дыханія становились все продолжительнѣе, но слухъ еще сохранился. Это было послѣднее сопротивленіе чувствительности передъ смертью, оно длилось пока тѣло мало-по-малу повергалось въ черную бездну безсознанія. Медленно прекратились судороги: вѣки раскрылсь въ послѣднемъ приступѣ озноба, обнажая зеницы глазъ, расширенныя, съ матовымъ и тусклымъ оттѣнкомъ.
Революціонеръ взялъ на руки это тѣло, легкое какъ у ребенка, и отстраняя родныхъ, медленно опустилъ его на кучу лохмотьевъ.
Донъ-Фернандо дрожалъ: его синіе очки потускнѣли, мѣшая ему хорошенько видѣть, холодная безстрастность, отличавшая его во всѣхъ случайностяхъ жизни, таяла передъ этимъ маленькимъ трупомъ, легкимъ какъ перышко, которое онъ положилъ на нищенскую постель. Въ его движеніяхъ было нѣчто въ родѣ священнодѣйствія, какъ будто онъ признавалъ смерть единственной несправедливостью, передъ которой преклонялся его гнѣвъ революціонера.
Когда цыгане увидѣли Мари-Крусъ, лежашую неподвижно, они долгое время пробыли въ безмолвномъ оцѣпенѣніи. Въ глубинѣ людской раздавалисъ рыданія женщинъ, поспѣшный шопотъ молитвы.
Алкапарроны смотрѣли на трупъ издали, не дерзая ни поцѣловать его, ни соприкоснуться съ нимъ, въ виду суевѣрнаго уваженія, которое смерть внушаетъ ихъ племени. Но вскорѣ старуха поднялась, царапая себѣ судорожными руками лицо, углубляя пальцы въ жирные свои волосы, еще черные, несмотря на ея годы. Кругомъ лица ея разсыпались пряди ея волосъ, и продолжительный вопль заставилъ всѣхъ вздрогнуть.
– А-а-ай! Моя дѣвонька умерла! Моя бѣлая голубка! Моя апрѣльская розочка!..
И крики свои, въ которыхъ звенѣлъ обильный паѳосъ скорби жителей Востока; она сопровождала царапинами лица, окровавливая ими свои морщины. Одновременно съ этимъ послышался глухой стукъ, это Алкапарронъ бросился о земь и бился головой о полъ.
– А-а-ай! Мари-Кру ушла! – ревѣлъ онъ, какъ раненый звѣрь. – Лучшая изъ всего нашего дома! Честь нашей семьи!
И маленькіе Алкапарроны, какъ будто внезапно подчиняясь обряду своего племени, поднялись на ноги и начали бѣгать по двору и вокругь, издавая крики и царапая себѣ лицо.
– О-ой, ой! Умерла бѣдненькая двоюродная сестра!.. Ой!.. Ушла отъ насъ Мари-Кру!..
Какъ безумные бѣгали они по всѣмъ отдѣленіямъ мызы, точно желая, чтобы и самыя скромныя животныя узнали о ихъ несчасгіи. Оги проникали въ конюшни, скользили подъ ногами животныхъ, повторяя свои вопли о смерти Мари-Крусъ: ослѣпленные слезами, они мчались, стукаясь объ углы, опрокидывая здѣсь плугъ, таімъ стулъ, въ сопровожденіи собакъ, не бывшихъ на цѣпи, и слѣдовавшихъ за ними по всей мызѣ, присоединяя и свой лай къ отчаяннымъ ихъ воплямъ.
Нѣкоторые поденщицы погнались за маленькими бѣсноватыми, и схвативъ ихъ, приподняли ихъ высоко, но и въ такомъ видѣ, будучи въ плѣну, они продолжали размахивать въ воздухѣ руками, не прерывая свой плачъ.
– О-ой… умерла наша двоюродная сестра! Бѣдняга Мари-Кру!
Утомившисъ рыдать, царапать себѣ лицо, биться головой о землю, измученная шумнымъ своимъ горемъ, вся семья снова; усѣлась вокругъ трупа.
Хуанонъ съ нѣсколъкими товарищами собирался бодрствовать надъ мертвой до слѣдующаго утра. Семья ея можеть въ это время лечь спать за стѣнами людской, потому что сонъ имъ необходимъ. Но старая цыганка воспротвилась этому. Она не желаетъ, чтобы трупъ оставался дольше въ Матансуэлѣ. Тотчасъ же они отправятся въ Хересъ и увезутъ туда трупъ в телѣжкѣ ли, на ослѣ, или же на плечахъ ея и ея дѣтей, если это окажется нужнымъ.
У нихъ свой домъ въ городѣ. He бродяги же Алкапарроны? Семья ихъ многочисленна и безконечна; отъ Кордовы и до Кадикса нѣтъ той лошадиной ярмарки, гдѣ бы нельзя было встрѣтить кого-либо изъ ихъ родственниковъ. Сами они бѣдные, но у нихъ есть родные, что могли бы съ ногъ до головы обложить ихъ червонцами; богатые цыгане, которые ѣздятъ по дорогамъ съ слѣдующими за ними цѣлыми стадами лошадей и муловъ. Всѣ Алкапарроны любили Мари-Крусъ, больную дѣву съ нѣжными глазами: похороны ея будутъ королевскими, хотя жизнь ея и была жизнью вьючнаго животнаго.
– Идемъ, – сказала старуха съ сильной экзальтаціей въ голосѣ и движеніяхъ. – Идемъ сейчасъ въ Хересъ. Я хочу, чтобы еще до разсвѣта ее видѣли всѣ наши, такой красивой и нарядной, какъ сама Матерь Божія. Я хочу, чтобы ее видѣлъ дѣдушка, отецъ мой; самый старый цыганъ во всей Андалузіи, и чтобы бѣдняга благословилъ ее своими руками святого отца, которыя дрожатъ и кажется, что изъ нихъ исходитъ свѣтъ.
Обитатели людской одобрили мысль старухи съ эгоизмомъ усталости. Они не могутъ воскресить мертвую, и лучше, для спокойствія ихъ, чтобы эта шумная семья, мѣшающая имъ спать, удалилась бы.
Рафаэль вступился, предлагая имъ двуколку мызную. Дядя Сарандилья запряжетъ ее и менѣе чѣмъ въ полчаса они могутъ увезти трупъ въ Хересъ.
Старая Алкапаррона, увидавъ надсмотрщика, взволновалась и въ ея глазахъ засверкалъ огонь ненависти. Наконецъ-то она встрѣтилась съ тѣмъ, на кого можетъ взвалить вину своего несчастія.
– Это ты, воръ? Ты вѣрно доволенъ теперь, проклятый надсмотрщикъ. Посмотри-ка на бѣдняжку, которую ты убилъ.
Рафаэль отвѣтилъ неудачливо: