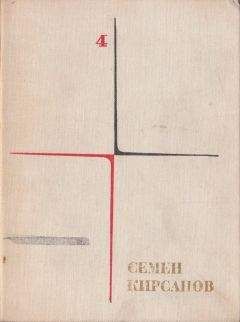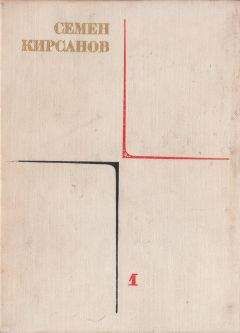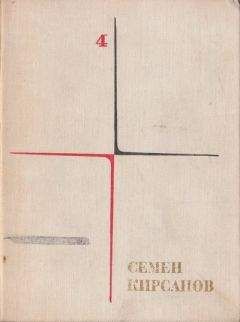«Любезность»
Любезность — не любовь.
А ну ее, «любезность»!
Живут, не хмуря лбов,
любезные — и без нас.
Лобзать и не любить?
И лебезить при этом?
Я не любитель быть
объятий их объектом.
Спасающая нас
любовь — не резонерство,
и в самый тяжкий час
любезность резанет вас.
Любезность — лишь под цвет
любовей настоящих, —
вбегающих чуть свет
и для тебя не спящих;
не смеющих тебя
в опасный час покинуть,
готовых хоть с себя
жизнь, как рубашку, скинуть
Таких — в нужде, в войне —
хочу я видеть снова,
не говорящих мне
любезного — ни слова!
Щеглы попали в клетку.
Ко мне привел их путь.
Но я задумал — к лету
свободу им вернуть.
Грустят в тюремном быте
с приятелем щегол.
Я тоже не любитель
задвижек и щеколд.
И птицам нет расчета.
Неволя — не житье.
Решетка есть решетка,
хоть золоти ее.
Уже весной запахло,
ручьи по мостовой,
снежинка стала каплей,
и стужа теплотой.
Окно раскрыл я настежь,
и клетку я раскрыл.
Стою и жду. Так нате ж, —
не расправляют крыл!
Свобода, братцы! Солнце!
Природа так щедра!
Я взял и за оконце
подбросил вверх щегла.
Летите, мчитесь вместе
к друзьям своим лесным!
Смотрю — один на месте,
смотрю — второй за ним,
и ну, к кормушке — пичкать
зерном свои зобы.
…Привычка есть привычка
к превратностям судьбы.
А ведь момент действительно течет,
а не мелькает. Медленно и долго
течет момент, как маленькая Волга,
и в вечность все явления влечет…
Его частиц непознаваем счет,
и может в нем теряться, как иголка,
частица счастья, и крупица долга,
и боль, что сердце надвое сечет.
Чушь! Не течет момент. И течь не должен.
Ни с места он и вечно недвижим,
как лед, который лыжами заскольжен.
Не убавляем он, не растяжим,
не начат никогда и не продолжен.
А это мы — скользим, течем, бежим…
Садился старичок в такси,
держа пирог в авоське,
и, улыбнувшись сквозь усы,
сказал: — До Пироговской.
Он как бы смаковал приезд
и теплил умиленье,
что внучка пирога поест
и сядет на колени…
Три рослых парня у такси
рванули настежь дверцу
и стали старичка тащить
за отворот у сердца.
За борт авоську с пирогом
и старичка туда же,
и с трехэтажным матюгом!
— Жми, друг, куда покажем!
Стоял свидетель у столба,
как очередь живая,
он что-то буркнул про себя,
сей факт переживая.
Прошло прохожих штуки три
в трех метрах от машины,
но что в них делалось внутри —
как знать? — они спешили.
Ждала их служба или флирт? —
гадать считаю лишним,
а может, в них бурлил конфликт
общественного с личным?
Про этот случай рассказал
мне продавец киоска;
он видел, как старик упал
и с пирогом авоська.
Он возмущался громко, вслух,
горел, как сердце Данко,
но не вмешался, так как лук
отвешивал гражданкам.
Затем явился некий чин,
пост на углу несущий,
и молвил: — Стыдно, гражданин
уже старик, а пьющий.
Водопадствуя, водопад
низвергается, как низверженный,
и потоки его вопят —
почему они не задержаны!
Темный хаос земных пород
в глубочайших рубцах и трещинах.
Самолетствуя, самолет
прорывается в тучи встречные.
И пока самолет орет
турбодвигателями всесильными —
распластавшись внизу, орел
кордильерствует над вершинами.
А по каменным их краям,
скалы бурной водой окатывая,
океанствует океан,
опоясав себя экватором.
Горизонствует горизонт,
паруса провожая стаями.
Гарнизон, где жил Робинзон,
остается необитаемым.
И пока на аэропорт
по кругам самолет снижается —
книга детства в душе поет
и, как сладкий сон, продолжается.
Початок золота и маиса —
Вальпараисо, Вальпараисо,
спиною к Андам, лицом к воде —
тебя я видел, но где, но где?
Вальпараисо, Вальпараисо!
А может быть, я и здесь родился?
где пахнет устрица, рыба, краб,
где многотонный стоит корабль?
А может быть, я родился дважды,
у Черноморья (как знает каждый
и также здесь, у бегущих вниз
домов — карнизами на карниз?
Вальпараисо, Вальпараисо,
ты переулками вниз струишься,
за крышей крыша, к морской воде,
тебя я видел и помню — где.
Тюк подымает десница крана —
Одесса Тихого океана.
Взбегает грузчик, лицо в муке,
моряк за стойкою в кабаке.
Все так привычно, все так знакомо,
а может, я не вдали, а дома?
Пора рыбачить, пора нырять,
и находить и опять терять…
Но на таинственный остров Пасхи
глядят покрытые медью маски,
и странно смотрит сквозь океан
носатый каменный истукан.
И черноморский скалистый берег,
и побережия двух Америк,
и берег Беринговый нагой —
все продолжают один другой.
Вальпараисо, Вальпараисо!
О, пряность мидий в тарелке риса,
о, рыб чешуйчатые бока,
о, танец с девушкой рыбака!
И в загорелых руках гитара,
и общий танец Земного шара,
и андалузско-индейский взор
в едином танце морей и гор!
Никаких описаний,
никаких дневников!
Только плыть небесами
и не знать никого.
И не думать, что где-то
видел это лицо —
коммерсантов, агентов,
дипломатов, дельцов.
Плыть простором ливийским
сквозь закат и рассвет,
пока пьет свое виски
полуспящий сосед.
Незнакомым простором
над песками пустынь
рядом с ревом моторов
плыть с карманом пустым.
И глядеть — без желаний,
в пустоте синевы
на пустыню, где ланей
ждут голодные львы.
А желать, только чтобы
шли быстрее часы
и к асфальтовым тропам
прикоснулось шасси.
И вернуться, вернуться,
возвратиться скорей
к полосе среднерусской,
к новой песне своей.
О бьющихся на окнах бабочках
подумал я, что разобьются,
но долетят и сядут набожно
на голубую розу блюдца.
Стучит в стекло. Не отступается,
но как бы молит, чтоб открыли.
И глаз павлиний осыпается
с печальных, врубелевских крыльев.
Она уверена воистину
с таинственностью чисто женской,
что только там — цветок, единственный,
способный подарить блаженство.
Храня бесстрастие свое,
цветок печатный безучастен
к ее обманчивому счастью,
к блаженству ложному ее.