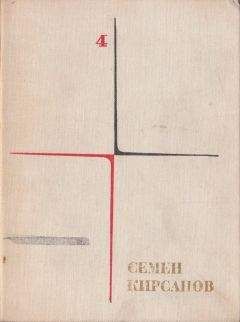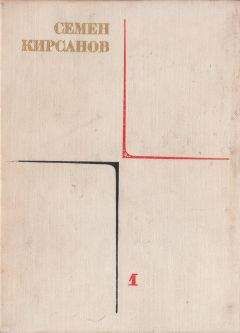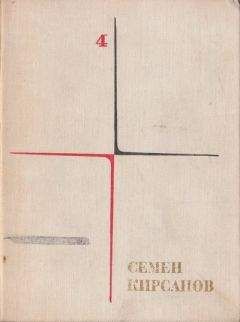ПРИЗНАНИЯ (1969–1972)
Я ищу прозрачности,
а не призрачности,
я ищу признательности,
а не признанности.
Бессмертья нет — и пусть!
На кой оно — «бессмертье»?
Короткий жизни спуск
с задачей соразмерьте.
Признаем, поумнев:
ветшает и железо!
Бесстрашье — вот что мне
потребно до зареза.
Из всех известных чувств
сегодня, ставши старше,
я главного хочу:
полнейшего бесстрашья —
перед пустой доской
неведомого завтра,
перед слепой тоской
внезапного инфаркта;
перед тупым судьей,
который лжи поверит,
и перед злой статьей
разносного, и перед
фонтаном артогня,
громилою с кастетом
и мчащим на меня
грузовиком без света!
Встречать, не задрожав,
как спуск аэроплана —
сниженье тиража
и высадку из плана.
Пусть рык подымут львы!
Пусть под ногами пропасть
(Но — в области любви
я допускаю робость.)
Бессмертье — мертвецам!
Им — медяки на веки.
Пусть прахом без конца
блаженствуют вовеки.
О, жизнь, светись, шути,
играй в граненых призмах,
забудь, что на пути
возникнет некий призрак!
Кто сталкивался с ним
лицом к лицу, тот знает:
бесстрашие живым
бессмертье заменяет.
Недолговечна вечность.
Во имя человечности
мы молим: — Не увечь нас,
недолговечность вечности!
Мы молим — длиться дольше
мгновение блаженное.
О, стиль «нуова дольче»,
о, всплеск воображения!
Продлиться, ах, продлиться! —
все жаждет, все хлопочет:
жучки, медузы, листья,
и человек, и общество.
И статуи, и мумии,
и завещаний вещность —
все просит, молит, думает:
как влезть вот в эту вечность?
Завидуем — что выжило?
Шекспир! Его не видно ли!
А «вечность» — неподвижна, —
ее мы сами выдумали.
Хочу родиться дважды,
а если можно — трижды,
но жить не в стаде жвачных,
такой не мыслю жизни.
Но кстати — если в стаде,
то в табуне степном,
где ржанье, топот, стати
и пыль под скакуном.
Кабы такие б лица,
где из ноздрей — огонь!
Где бой за кобылицу —
в смерть загоню — не тронь!
Хочу родиться дважды,
чтоб пена на боках,
но ни за что — в упряжке
на скачках и бегах.
Я не хочу быть дервишем,
что пляшет перед фетишем
с веригами под вретищем
и препоясан вервищем.
Ни — с облака сошедшим,
дабы глаголом жечь,
ни — древним сумасшедшим
провидцем из предтеч.
Хочу я только трезвости
отточенных остро,
по-медицински режущих,
как в анатомке, строк.
И зренья, только зренья —
в глубинный жизни слой.
При этом всем — прозрение
придет само собой.
Мой предок пещерный! Ты — я.
Я факт твоего бытия.
Мы признаки сходства несем
в иероглифах хромосом,
где запрограммировал ты
бесчисленных внуков черты.
И если я ныне живу —
то значит: ты был наяву;
ты бился, ты подлинно был,
ты шкуру у волка добыл;
ты камень калил докрасна
у первого в мире костра,
чтоб я не замерз, не продрог,
чтоб выжить и вырасти мог
и как воплощенье твое —
свое ощутил бытие!
И пусть, когда няням вручат
твоих пра-пра-пра-правнучат, —
я буду, как соль, растворен
в бегущих из разных сторон
в мальчишках и в девочках всех
и вкраплен в их игры и смех.
Я буду присутствовать в них
мильярдом твоих составных
частиц, составлявших меня
до вздоха последнего дня.
И дней твоей жизни не счесть,
пока человечество есть!
Художник — этакий чудак,
но явно с дарованьем,
снимает нежилой чердак
в домишке деревянном.
Стропила ветхи и черны
в отрепьях паутины,
а поздней ночью у стены
шуршат его картины.
Картины странного письма
шуршат, не затихая:
— Ты кто такая? — Я сама
не знаю, кто такая…
Меня и даром не продашь,
как «Поле на рассвете».
Я не портрет, я не пейзаж,
но я живу на свете.
Другая застонала: — Нет,
ты все же чем-то «Поле»,
а я абстрактна, я портрет
неутолимой боли…
А третья: — Это все одно,
портреты или виды.
Вот я — пятно, но я пятно
на сердце, от обиды.
Четвертая: — Пусть обо мне
твердят, что безыдейна.
Но я пейзаж души во сне,
во сне без сновиденья.
И пятая: — Кто любит сны,
меня же тянет к спектру,
и я — любовь голубизны
к оранжевому цвету.
Шестая: — Вряд ли мы поймем,
что из-под кисти выйдет,
зато меня в себе самом
всю ночь художник видит.
Я в нем живу, я в нем свечусь,
мне то легко, то трудно
от красками плывущих чувств,
хотя я холст без грунта.
Его задумчивых минут
ничем я не нарушу, —
пусть он сидит, глазами внутрь
в свою цветную душу.
Я бродячий фокусник,
я вошел во двор,
расстелил я с ловкостью
редкостный ковер.
Инвалиды, школьники,
чем вас удивить?
Вот червонцы новенькие
начал я ловить.
Дворничихи в фартуках,
гляньте из окон:
вот я прямо с факела
стал глотать огонь.
Вот обвился лентами
всех семи цветов,
вот у ног по-летнему
вырос сад цветов.
Видите ли, видите ли —
сдернул с головы…
Из цилиндра вылетели
голуби — лови!
Я взмахнул похожим на
веер голубой
и поднос с пирожными
поднял над собой.
А богат я сказочно,
разодет, как шах…
Но это только кажется, —
у меня в руках
никакого голубя,
никаких монет —
только пальцы голые,
между ними — нет
ни ковра, ни веера,
ни глотков огня…
Только мысль, чтоб верила
публика — в меня!
Остыл мой детский пыл,
заброшены учебники, —
я фокусником был
и поступил в волшебники.
Волшебнику — трудней!
Теперь уже не детство ведь.
Он без воскресных дней
обязан чудодействовать.
В созвездиях до пят
он должен — делать нечего! —
как врач-гомеопат
буквально все излечивать.
Он должен превращать
простую глину в золото,
он должен возвращать
согбенным старцам молодость.
Чтоб с духами стихий
устраивать свидания,
должны мои стихи
звучать, как заклинания.
Но раз я взял себе
волшебную обязанность, —
я должен, чтоб и бес
вдруг возникал под занавес.
И чтобы сатана
с пером над красной шляпою
в хромых своих штанах
пел арию Шаляпина.
Свет адского огня
дымится, пляшет, искрится!..
Но Гретхен на меня
не смотрит даже искоса.