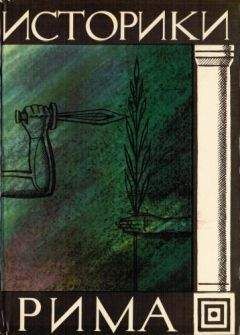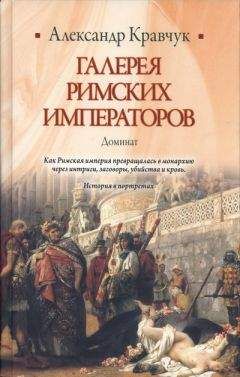LXXII. Царь отвечал сдержанно — вопреки тому, что творилось у него в душе. Казнив Бомилькара и многих других, замешанных, как выяснилось, в заговоре, он подавил свой гнев, опасаясь мятежа. Но впредь уже ни днем, ни ночью не ведал Югурта покоя. Не было такого места, такого человека, такого часа, которому он бы доверился вполне, он боялся и подданных и врагов — без разбора, повсюду пугливо озирался, дрожал от любого шума, каждую ночь проводил в ином месте, часто совершенно для царя непристойном, случалось, вскакивал со сна, хватал оружие, поднимал тревогу. Так страх терзал его, точно безумие.
LXXIII. Метелл узнал от перебежчиков о падении Бомилькара и о доносе, открывшем измену, и снова стал поспешно готовиться к войне, как бы начиная все с самого начала.
Мария, который все докучал просьбами об увольнении, он отпустил домой, считая, что от человека озлобленного и ожесточившегося польза невелика. А в Риме между тем простой народ с удовольствием выслушал письма, где сообщалось о Метелле и о Марии. Для командующего знатность, прежде служившая ему украшением, обернулась источником ненависти, а тому, второму, низкое происхождение прибавляло весу и блеску. Впрочем, отношение к обоим определялось не столько достоинствами или изъянами каждого, сколько страстями враждующих станов. Вдобавок трибуны умышленно бунтовали народ, на каждой сходке обвиняя Метелла в тяжких преступлениях и преувеличивая заслуги Мария. В конце концов народ до того распалился, что все мастеровые и крестьяне, у которых и состояние, и доброе имя заложено в труде собственных рук, побросали обычные занятия и теснились вокруг Мария, воздавая ему почести и забывая за этим о неотложных своих нуждах. Знать была запугана, и консульство — впервые после долголетнего перерыва! — досталось новому человеку.171 Вслед за тем народный трибун Тит Манлий Манцин обратился к народу с запросом, кому поручить войну с Югуртою, и большинство определило: Марию. Немногим ранее сенат назначил Нумидию Метеллу, но теперь решение это стало пустым звуком.
LXXIV. А Югурта, потерявший друзей и приближенных, — многих он сам казнил, остальные в страхе бежали, кто к римлянам, а прочие к царю Бокху, — пребывал в полной растерянности, потому что вести войну один, без помощников, не мог, испытывать же верность новых друзей после такого вероломства старых считал опасным. Никто из людей, никакое дело, никакое решение не были ему по душе: ежедневно менял он пути и начальников и то устремлялся на врага, то в пустыню; часто все надежды возлагал на бегство, а спустя немного — на силу оружия; не знал, чему доверять меньше — храбрости своих людей или их преданности; одним словом, куда бы он ни обратился, все было против него.
Но меж тем, как он медлит, внезапно появляется Метелл с войском. Югурта готовит нумидийцев к бою (насколько позволяет время), и сражение начинается. Та часть строя, где находился царь, какое-то время оборонялась, все же остальные воины Югурты ударились в бегство, едва сойдясь с неприятелем. Римляне захватили много оружия и боевых знамен, но пленных взяли немного, потому что почти во всех битвах нумидийцев выручали скорее ноги, нежели мечи и щиты.
LXXV. На этот раз, разуверившись в своих надеждах еще сильнее, Югурта с перебежчиками и частью конницы бежал в пустыню, а оттуда явился в Талу, обширный и богатый город, где хранилась большая половина его сокровищ и воспитывались царские сыновья. Метеллу донесли об этом, и, зная, что между Талою и ближайшею рекой лежат сорок миль иссохшей пустыни, все же, в надежде завершить войну, если город этот будет захвачен, он делает попытку одолеть все преграды и победить самое природу. Он распоряжается освободить всех вьючных животных от поклажи и — не считая лишь десятидневного запаса хлеба — нагрузить их только водою в мехах и иных пригодных для перевозки сосудах. Далее он сгоняет с полей весь домашний скот, какой удается согнать, и навьючивает его разного рода кувшинами, главным образом деревянными, взятыми из нумидийских хижин. Наконец, он приказывает окрестным жителям, которые после бегства царя отдались на милость римлян, чтобы каждый доставил как можно больше воды в то место и в тот день, какие он им назначил. Сам он запасся водою из ближайшей, как уже говорилось, к Тале реки. Изготовившись таким образом, он выступает.
Но затем, когда пришли к месту, назначенному нумидийцам, и разбили там лагерь, вдруг с неба хлынуло столько воды, что ее одной достало бы с избытком на целое войско. А тут еще нумидийцы исполнили свою повинность с тою ревностью, какую обычно выказывают подчинившиеся внове, и привезли больше, чем от них ждали. Впрочем, солдаты — из благочестия — охотнее брали дождевую воду, и это обстоятельство заметно прибавило им духу: они были убеждены, что бессмертные боги пекутся о них. На другой день, к великому изумлению Югурты, римляне появились у стен Талы. Горожан, которые считали себя надежно защищенными трудною местностью, страшное и необыкновенное это событие смутило чрезвычайно, однако ж они, не покладая рук, готовились к борьбе. Так же действовали и наши.
LXXVI. Но теперь, после того как Метелл решимостью своею превозмог все — силу оружия, время и место, самое всемогущую природу, наконец, — царь считал, что для него нет невозможного, и с детьми, с изрядною долею своих сокровищ ускользнул ночью из города. Впоследствии он уже нигде не задерживался дольше одного дня или одной ночи. Он притворялся, будто спешить его заставляют обстоятельства, на самом же деле боялся измены и полагал, что избегнуть ее можно только проворством, ибо изменнические планы вызревают на досуге, в благоприятных условиях.
Видя, что горожане готовы к битве, а город укреплен и стенами, и естественным своим положением, Метелл принялся окружать стены валом и рвом. Среди большого множества удобных мест выискав два самых удобных, он подвел осадные навесы, устроил насыпь и поставил на ней башни — защищать работы и работников. Горожане, со своей стороны, торопились, хлопотали; коротко сказать, ни та, ни другая сторона ничего из виду не упустила. Лишь через сорок дней после своего прихода, истомившись и в трудах и в боях, овладели римляне городом; но и только: добыча, вся целиком, была погублена перебежчиками. Когда они услыхали, как таран колотит в стену, и поняли, что положение их отчаянное, они снесли золото, серебро и прочие ценности в царский дворец. Напившись допьяна и наевшись до отвалу, они затем истребили огнем и ценности, и дворец, и себя самих. Так они сами добровольно приняли кару, которую боялись понести от руки врагов в случае поражения.
LXXVII. В день взятия Талы к Метеллу прибыли посланцы из города Лепты и умоляли прислать к ним начальника и караульный отряд. Некий Гамилькар, рассказывали они, человек знатный и беспокойный, замышляет переворот, и ни выборные власти, ни законы не в силах с ним справиться; если Метелл замешкается, благополучие лептийцев окажется под смертельною угрозой, а ведь они союзники римского народа: еще в самом начале войны с Югуртой они посылали просить о дружбе и союзе — сперва к консулу Бестии, а после в Рим. Просьба их была уважена, и они всегда оставались честными и верными союзниками и ревностно исполняли все повеления Бестии, Альбина и Метелла. Лептийцы легко добились того, о чем ходатайствовали перед командующим: четыре когорты лигурийцев во главе с Гаем Аннием выступили в Лепту.
LXXVIII. Город этот основан сидонянами, которых, сколько я знаю, гражданские смуты побудили к изгнанию, и они на кораблях приплыли в те края. Он расположен меж двумя Сиртами. Это два залива почти на самом краю Африки, не одинаковые размерами, но природными свойствами одинаковые; по этим свойствам дано им и название. Подле берега они очень глубокие, в остальных местах — как придется, в зависимости от погоды: когда глубокие, а когда мелкие. Если море вздувается и начинает свирепствовать под ударами ветра, валы тянут за собою ил, песок и громадные камни; так с каждою бурей меняется обличие морского дна. От слова «тянуть» и зовутся они Сиртами.172 Переменился в Лепте только язык — через браки с нумидийскими женщинами, а законы и обычаи большей частью прежние, сидонские, и сохранялись они тем легче, что царская власть была от лептийцев далеко: между ними и заселенными местами Нумидии просторно легла пустыня.
LXXIX. Раз уже дела лептийцев завели нас в эти края, надо, мне кажется, рассказать о прекрасном и удивительном подвиге двух карфагенян: мне напомнили о нем места, которые я описываю. В те времена, когда надо всею почти что Африкой властвовали карфагеняне, немалою силой и богатством обладали также жители Кирены. Местность посредине лежала песчаная, однообразная; не было ни реки, ни горы, которая обозначила бы границу между двумя народами. Это обстоятельство втянуло их в долгую и трудную войну. После того, как с обеих сторон и войска, и флоты не один раз терпели сокрушительные поражения и противники жестоко ослабили друг друга, карфагеняне и киренцы забеспокоились, как бы кто третий вскорости не напал на усталых победителей и побежденных разом. И вот, заключивши перемирие, они договорились, чтобы в условленный день из обоих городов вышли послы, и где они повстречаются, там и быть границе. Из Карфагена отправлены были два брата, по имени Филены; они поспешно пустились в путь. Киренцы двигались медленнее, по нерадивости или же случайно — я не узнал. Знаю только, что в тех местах часто бывают долгие бури, совсем как на море: когда на голой равнине поднимается ветер, он вздымает с земли песок, который несется так стремительно, что набивается в рот и в глаза, а стало быть, застилает взор и останавливает путника.