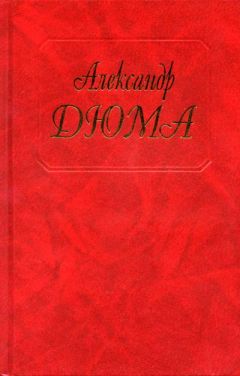Ступив в этот дивный уголок, таинственно освещавшийся с потолка лампой богемского стекла, посетитель забывал о печальной юдоли, и ему чудилось, будто он путешествует на оранжевом облаке, замешенном на золоте с лазурью, которыми Марилья украшал свои восточные пейзажи.
Ступив в это облако, посетитель оказывался в раю, ведь спальня, в которую мы приглашаем читателя, и есть настоящий рай!
Стоило отворить дверь или, говоря точнее, приподнять портьеру (если и были в этих апартаментах двери, искусный обойщик сделал их совершенно невидимыми), и первое, что бросалось в глаза, – прекрасная Лидия, мечтательно возлежащая на кровати, занимавшей правую сторону спальни; ее локоток опирался или, вернее, утопал в мягкой подушке; в другой руке Лидия сжимала томик стихов в сафьяновом переплете; возможно, она сгорала от желания почитать перед сном, однако какая-то назойливая мысль не давала ей сосредоточиться на книге.
Лампа китайского фарфора горела на ночном столике работы Буля и сквозь шар красного богемского стекла отбрасывала на простыни розоватый свет, точь-в-точь как лучи восходящего солнца – на ослепительно белые вершины Юнгфрау или Монблана.
Вот что прежде всего притягивало взгляд; может быть, скоро мы попытаемся передать как можно более трепетно впечатление, которое производит это восхитительное зрелище. Но сейчас мы должны описать этот прелестный уголок.
Сначала – Олимп, а затем – богиню, которая в нем обитает.
Вообразите спальню или, лучше – гнездо голубки, достаточно просторное, чтобы в нем можно было спать, – и с довольно высокими потолками, чтобы в нем было легко дышать! Стены и потолок обиты ярко-красным бархатом, отливающим то гранатовым, то рубиновым цветами в тех местах, куда падает свет.
Кровать занимает комнату почти во всю длину, так что в изголовье и в изножье едва помещаются две этажерки розового дерева, уставленные изящнейшими безделушками из саксонского, севрского и китайского фарфора, которые удалось найти у Монбро и Тансберга.
Против кровати находится камин, обтянутый бархатом, как, впрочем, и все в этой комнате. По обе стороны от камина стоят козетки, словно покрытые пухом колибри, а над каждой из кушеток висит зеркало в раме, сплетенной из листьев и золотистых кукурузных початков.
Давайте присядем на одну из этих козеток и бросим взгляд на кровать.
Она обита ярко-красным однотонным бархатом, но словно светится благодаря обрамлению, представлявшему собой верх простоты; глядя на него, вы невольно зададитесь вопросом, откуда взялся столь поэтически настроенный обойщик или же, напротив, поэт, превратившийся в искусного обойщика, который добился удивительного результата. Обрамление кровати состоит из огромных полотен восточных тканей (арабские женщины называют их «haiks») – шелковые айки в бело-голубую полоску и с бахромой.
В изголовье и в изножье два широких полотна ниспадают вертикально и могут собираться вдоль стены с помощью алжирских подхватов, сплетенных из шелковых и золотых нитей и вставленных в кольца из бирюзы.
За кроватью висит огромное зеркало в раме из такого же бархата, каким обита кровать, но зеркало висит не на стене, а на третьем айке. В верхней части зеркала ткань присборена и струится тысячью складок вниз, к большой золотой стреле, вокруг которой она образует две пышные оборки.
Но чудесный эффект этой комнаты заключался в ее зеркальном отражении, рассчитанном, очевидно, на то, чтобы скрыть ее подлинные размеры.
Как мы уже сказали, напротив кровати стоял камин. Над камином, уставленным тысячью изысканных безделушек, которые составляют мир женщины, находилась оранжерея, и ее отделяло лишь зеркало без амальгамы; зеркало при желании отодвигалось, и спальня женщины оказывалась в непосредственной близости с комнатой цветов. Посреди этой небольшой оранжереи в бассейне резвились китайские разноцветные рыбки размером с пчелу, а из воды поднималась мраморная статуя работы Прадье13 в половину натуральной величины.
Оранжерея эта была не больше самой спальни, однако благодаря удачному устройству она производила впечатление восхитительного и необъятного сада, вывезенного из Индии или с Антильских островов: тропические растения крепко переплелись между собой и поражали посетителя богатством экзотической флоры.
На десяти квадратных футах будто собрались редчайшие растения целого континента, это был Ближний Восток в миниатюре.
Дерево, получившее название короля всех растений, древо познания добра и зла, выросшее в зеленом раю, – происхождение его бесспорно, потому что листом с этого дерева наши прародители прикрыли свою наготу, за что и получило оно название Адамова фигового дерева, – было представлено в оранжерее пятью основными видами: райское банановое дерево, мелкоплодное банановое дерево, китайское банановое дерево, банановое дерево с розовым дроком, а также с красным дроком. Рядом росла геликония, похожая на банановое дерево длиной и шириной листьев; потом – равелания с Мадагаскара, представлявшая в миниатюре дерево путешественников, всегда готовое напоить страдающего от жажды негра свежей водой даже в самую сильную засуху; стрелиция-регина, чьи цветы похожи на голову готовой ужалить змеи с огненным хохолком; канна из восточной Индии, из которой в Дели изготавливают ткань, ни в чем не уступающую самым тонким шелкам; костус, употреблявшийся древними во время церемоний благодаря его аромату; душистый ангрек с острова Реюньон; китайский зингибер, представляющий собой не что иное, как растение, из которого получают имбирь, – одним словом, целая коллекция растений со всего света.
Бассейн и основание скульптуры терялись в папоротниках с резными листьями, а также в плаунах, которые могли бы соперничать с самыми мягкими коврами Смирны и Константинополя.
Теперь, пока нет солнца (оно завладеет небосводом лишь через несколько часов), попробуйте разглядеть сквозь листву, цветы и плоды, светящийся шар, который свисает с потолка, озаряя все вокруг и окрашивая воду в голубоватый цвет; благодаря такому освещению крошечный девственный лес наполняется настроением умиротворенности и меланхолии, мягким и серебристым лунным мерцанием.
Лежа на кровати, было особенно приятно любоваться чудесным зрелищем.
Как мы уже сказали, женщина, лежавшая в эти минуты в постели, одним локотком опиралась на подушки, а в другой руке держала томик стихов; время от времени она отрывалась от книги и блуждала взглядом по крохотным тропинкам, которые там и сям прокладывал свет в волшебной стране, представавшей ее взору сквозь зеркало как сквозь сон.
Если она была влюблена, она, должно быть, мысленно выбирала тесно переплетавшиеся цветущие ветви, среди которых могла бы свить гнездо; если она никого не любила, она, верно, спрашивала у пышно разросшейся растительности тайну любви, о которой говорил каждый листок, каждый цветок, каждый запах в этой оранжерее.
Мы достаточно подробно описали этот неведомый Эдем с улицы Артуа. Расскажем теперь о Еве, обитавшей в этом раю.
Да, Лидия вполне заслуживала этого имени, возлежа в мечтательной позе и читая «Раздумья» Ламартена; прочтя строфу, она наблюдала за тем, как распускается душистый бутон, – так природа словно продолжала и дополняла поэзию. Да, это была настоящая Ева, соблазнительная, свежая, белокурая, только что согрешившая; она обводила томным взором окружавшие ее предметы: трепещущая, беспокойная, вздрагивающая, она упорно пыталась разгадать секрет этого рая, где ей совсем недавно было так хорошо и где она вдруг оказалась в одиночестве. Сердце ее громко билось, глаза метали молнии, губы вздрагивали; она звала то ли сотворившего ее Бога, то ли погубившего человека.
Она завернулась в простыни из тончайшего батиста и набросила на плечи пушистый палантин; приоткрытый ротик, сверкающие глаза, яркий румянец – все в ней говорило за то, что она могла бы послужить прекрасной моделью для статуи Леды, живи она в Древних Афинах или Коринфе.
Как у Леды, соблазненной лебедем, у Лидии щеки пылали румянцем, она была погружена в сладострастное созерцание.
Если бы знаменитый Какова, автор «Психеи», увидел в эти минуты нашу языческую Еву, он создал бы шедевр из мрамора, который превзошел бы «Венеру Боргезе». Корреджо написал бы с нее мечтательную Калипсо, у которой за спиной прячется Амур; Данте сделал бы ее старшей сестрой Беатриче и попросил провести его по всем закоулкам на земле, как младшая сестра провела его по всем тайным уголкам небес.
Одно не вызывает сомнения: поэты, художники и скульпторы преклонили бы головы перед чудесной женщиной, сочетавшей в себе (и было непонятно, как ей это удавалось) невинность юности, очарование женщины, чувственность богини. Да, десять лет, пятнадцать, двадцать, иными словами – детский возраст, пора влюбленности, а затем зрелый возраст – и составляют трилогию, которая зовется молодостью; они приходят на смену друг другу (девочка превращается в девушку, потом становится женщиной) и остаются позади; эти три возраста, словно «Три Грации»