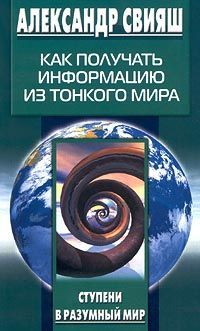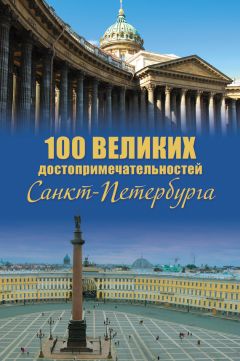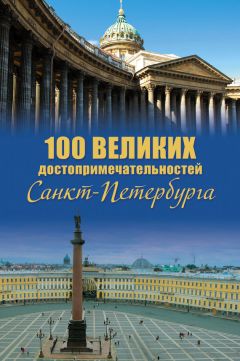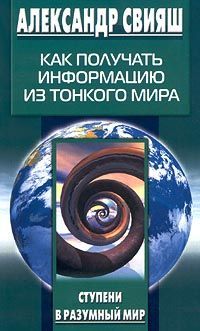1917 году.
И потом во время моих скитаний по Европе и Америке всегда возил с собой сборник его
стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой – в американском чемодане –
горсточку родной земли, так явственно, сладко и горько пахло от них родной землёй».
Далее Качалов описывает обстоятельства, приведшие Есенина в дом актёра. А потом
говорит уже о первой встрече:
«Прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня.
Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима… Тогда Джиму был всего четыре
месяца.
Я вошёл и увидел Есенина и Джима – они уже познакомились и сидели на диване,
вплотную прижавшись друг к другу.
Есенин одной рукой обнял Джима за шею, а другой держал его лапу и хриплым баском
приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой!» Джим ласково взвизгивал, стремительно
высовывал голову из - под мышки Есенина и лизал ему лицо.
Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима. Но тот продолжал на него
скакать и ещё несколько раз лизнул его в нос. « Да постой же, может быть, я не хочу больше с
тобой целоваться!» – бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой. Сразу
запомнилась мне эта детская лукавая, как будто даже с хитрецой улыбка.
Меня поразила его молодость. Когда он молча и, мне показалось, застенчиво подал мне
руку, он показался мне почти мальчиком, ну, юношей лет двадцати. Когда он заговорил, сразу
показался старше… Как будто усталость появилась в глазах.
Глаза и рот сразу заволновали своей выразительностью. Вот он о чём-то заспорил и
внимательно, напряжённо слушает оппонента: брови слегка сдвинулись, не мрачно, не скорбно, а
только упрямо и очень серьёзно. Чуть приподнялась верхняя губа – и какое-то хорошее выражение,
лицо пытливого, вдумчивого, в чём-то очень честного, в чём-то даже строгого, здорового парня, –
парня с «крепкой» башкой.
А вот брови ближе сжались, пошли книзу, совсем опустились на ресницы, и из-под них уже
мрачно, тускло поблескивают две капли белых глаз – со звериной тоской и со звериной дерзостью.
Углы рта опустились, натянулась на зубы верхняя губа, и весь рот напомнил сразу звериный
оскал.
А весь он вдруг напомнил готового огрызаться волчонка, которого травят. Но вот он
встряхнул шапкой белых волос, мотнул головой – особенно, по-своему, но в то же время и очень
по-мужицки – и заулыбался озаряющей улыбкой. И глаза засветились «синими брызгами»,
действительно, стали синими.
Замечательно он читал стихи. И потом, каждый раз, когда я слышал его чтение, я всегда
испытывал радость.
У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. Как только он начинал
читать стихи, у него становилось прекрасное лицо: спокойное, без напряжения, без гримас, без
аффектации актёров, без мёртвой монотонности поэтов.
А лицо выражало все чувства. И даже, думаю, если кто не слышал бы его голоса, но по
лицу мог догадаться, о чём звучал его стих, выражающий живое чувство.
Джим внимательно смотрел в рот читающего Сергея. А перед уходом Есенин снова долго
жал ему лапу.
Как он выглядел? Всё в нём, Есенине, было ярко и сбивчиво, неожиданно контрастно.
Казалось, он менял лики мгновенно.
Белоголовый юноша, тонкий, стройный, изящно, ладно скроен и как будто бы крепко сшит,
с васильковыми глазами, не нестеровскими, библейскими, а такими живыми, такими просто
синими, как у тысячи новобранцев на призыве, рязанских и московских, и тульских. – что -то
очень широко русское.
167
Парижский костюм, чистый, мягкий воротничок. Сверху на шее накинуто шёлковое
сиреневое кашне.
Светло-жёлтые кудри рязанского парня. Рука хорошая, крепкая, широкая, красная, не
выхоленная, мужицкая.
Голос с приятной сипотцой. Заговорил этим сиплым баском, сразу распылилась, растаяла,
как пудра на лице, вся эта «европейская культура».
И подумал я: куда ещё вторгнется эта необузданная Рязань, Русь наша, в какие Миры
войдёт, кого покорит?!»
Земное стихотворение Есенина о собаке Качалова известно: «Дай, Джим, на счастье лапу
мне!...»
А вот это – небесное. Он возникло в 1995 году, записано на 88 странице космического
дневника Свирели:
ДЖИМУ
Мой Джим, без малого, уже под сотню лет
Со мною делит вечера и мысли.
Уверен я, что он – в Душе Поэт
И залетает в облачные выси.
Он, знаю, поприветствовал не раз
Ту, что нежнее всех и молчаливей.
Я виноват, что нет её красивей.
И нет роднее рук её и глаз.
14, 10, 1995. Есенин.
Свирель просит Серёжу почитать стихи о любви. И он выливает на листы её дневника
поток нежнейших, никому не ведомых стихов:
О ЛЮБВИ
Любовь… Ну что ж, и о любви, конечно,
Неплохо бы с тобой поговорить.
Скажу тебе, что на Пути на Млечном
Не раз пришлось окошко растворить,
Впустить черёмух запах неотвязный,
До одури забывшись до утра,
Ронять в стихах своих рассказ бессвязный
О том, как плачет юная пора,
Ушедшая в заоблачные дали,
О чистом снеге, взгляде васильков,
О тех глазах, что бедные рыдали,
О топоте серебряных подков.
Куда ушла сиреневая юность?
Она осталась на моей Земле.
И тихий стон гитары семиструнной
Рождается в берёзовом стволе.
Я вижу Русь в рябиновом горенье.
Она как девочка в коротком кимоно
Снимает с облака моё стихотворенье,
Подаренное Родине давно.
НЕ ВИНИ
Ну, не вини меня, моя родная,
Что страсти нет давно в моей груди.
Рыдает сердце, тихо догорая
И спрашивает: Что там, впереди?
168
Я весь истлел, мне кажется порою.
И в этом теле, розовом как день, –
Старик и юноша, которого не скрою.
Так Солнце сочетает свет и тень.
Я молод нынче. В этом нет сомненья.
Но память! Мне её не одолеть!
В ней сотни жизней. Их преодоленье
И заставляет горестно болеть.
Хочу взлететь над собственною болью,
Хочу любить, а сердце не велит.
Ах, как же мы наказаны любовью,
Которая до крайности болит!
11. 10. 95.
БОЛЕН ЛЮБОВЬЮ
Мне всех любить хотелось, всех обнять.
Обиды я не наносил любимым.
Так думал я. Хотелось мне ронять
Бутон волос цветком неповторимым.
Но повторимы были вечера.
И ночи повторялись многократно.
Растрачивалась юная пора.
И молодость струилась безвозвратно.
Я всех обнял и прежде всех – Рязань.
Она в мои объятия стремилась.
И гулкая берёзовая рань
В Душе моей стократно повторилась.
Я видел в каждой женщине тебя,
Моя берёзка из родного поля.
Я прожил жизнь, страдая и любя,
И вновь живу, и вновь любовью болен.
ЧЕГО ХОЧУ?
Я странен сам себе… Чего хочу?
Кого любить? Куда теперь стремиться?
Скажите мне, ну где я отыщу
Свою страну берёзового ситца?
Увижу ли тебя средь васильков,
Где мы с тобой бродили до рассвета?
Услышу ли знакомый стук подков
И перегар рябинового лета?
Ты помнишь, как с тобою у крыльца
Мы задержались, обменявшись взглядом?
Скажу теперь: «Любимая, не надо,
Поскольку нет у повести конца…»
Я УЕДУ…
Голубиный незнакомый почерк…
169
Светит васильковая звезда.
Я люблю тебя, родная, очень,
Ты запала в Душу навсегда.
Не ревнует нынче Айседора.
Зинаида больше не моя.
Шаганэ меня увидит скоро,
Я уеду в тёплые края.
Но и там, с далёкого подворья,
За чертой Уральского хребта
Я увижу очи Синегорья
И России алые уста!
СНОВА ЮН
Отоснились мне синие взоры.
Повторяется молодость вновь.
И зимы голубые узоры
Не угасят рязанскую кровь.
Снова юн, снова весел и звонок,
Колокольчиком теплится смех
Шаловливых рязанских девчонок:
«Ты один наш Серёжа – на всех!»
Я не скрою – доволен и ласков,
Разрешаю на палец вязать
Эти кудри. И вечер прекрасный
Хочет сам о себе рассказать.
ЗАГЛЯНИ ПОЭТУ В ОЧИ!
Расплескал я брызги глаз весёлых
По чужим квартирам и дворам.
Отдал сердце городам и сёлам.
И представь: всё заново собрал!
Снова молод. И упруга поступь.
Всех люблю, и всеми вновь любим.
Всех встречаю ласково и просто.
Дух Творца во мне неистребим!
Бахромою звёздной между строчек
Свесилась осенняя пора.
Загляни, мой друг, Поэту в очи
С твоего уральского двора!
ЗОЛОТАЯ МОНЕТА
Золотою монетой назвали
Мой весёлый бутон головы. –
Неразменна в тоске и печали
На Кавказе, где синие дали,
И среди дорогой муравы.