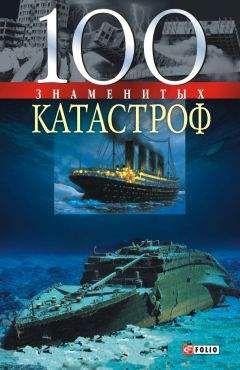— Я знаю. К сожалению, мне не удалось встретиться с ним... Совсем недавно он умер.
— Неужели? Какая потеря. Я был в Крыму на отдыхе... очевидно, меня не нашли. Пусть земля ему будет пухом. Мужественный был человек. Мне было восемнадцать лет. Я умышленно пошел в школу учителем, чтобы не убили. Я никого не предал, не убил. Почему бы и не работать у врага, налаживая связь с партизанами? Логично? Таких примеров много. Мы в сорок третьем вербовали полицаев. С войной до конца не разберутся никогда! Вон, живой пример. Для нас долгое время генерал Власов был предателем, а ныне дело повернули так, что, почитав нашу прессу, оказывается, его предали. Он герой. Так он генерал, а я рядовой партизан. Но коль скоро вы, сочувствуя «жертве», углубленно изучали документы, то покажу вам и вот эту бумажку, которую я не сдал в партийный архив, а приберег у себя, знал, что мир состоит из завистников. Справка подписана командиром отряда; в ней четко и однозначно называется дата моего сотрудничества с подпольем — август сорок первого. — Злобин с лукавым прищуром взирал на растерянного Любомира. — Я ведь мог сказать, что был подослан в школу с целью получения разведывательных данных. Поди докажи обратное. Признаюсь, у меня есть одна особенная черта — не знаю, достоинство это или недостаток, но я никогда не меняю своих решений. С чем бы это ни было связано. С престижем, с бытовыми хлопотами, с методами воспитания детей.
Всем своим видом Любомир напоминал человека, который оперся на ружье, а оно помимо его воли выстрелило. Злобин тактично наступал.
— Мы не научились ценить настоящих героев. Испохабить святое дело, очернить незаслуженно, во-от этому научились хорошо. Как бы вы отреагировали, если бы я, к примеру, стал копаться в грязном белье? Начал бы писать во все инстанции, что вы, член партии, тайно крестили в Житковичах своего сына. Я не представляю вашей реакции по жалобе в народный контроль о том, что вы вне очереди получили трехкомнатную квартиру в пятьдесят квадратных метров в престижном районе, обставили мебелью, купленной с черного хода, да мало ли каких грехов можно отыскать у нас, грешников, но ведь никто из здравомыслящих людей не берет их на вооружение и не спекулирует, зарабатывая себе капитал правдоискателя угнетенного народа. Поверьте, не того вы защищаете. Это месть неудачника, завистника. Обидно, что вы должны тратить драгоценное время и недюжинный талант на столь незначительную хлопушку, именно хлопушку. Знаю, не понаслышке, как вас ценят в центре, как вас по- отцовски опекает Иван Митрофанович. Так стоит ли плевать в колодец? Ведь кроме всех остальных в жалобах Барыкина фигурирует и Горностай. Основная масса народа нуждается в том, чтобы ею руководили. Барыкин свое отжил. Мне и вам еще долго жить. Нами создана наука о подборе и расстановке кадров. В нашем единстве сила духа и успех перестройки. Николай Иванович — пена перестройки. Его смелость проявилась после пленума восемьдесят пятого года, а остальные семнадцать лет сидел как мышь под печью. За одно это я его не уважаю. Где была его совесть, когда вводили войска в Чехословакию, в Афганистан? Охаивать да чернить ума не надо. И еще. Он активно поддерживал общество «Память». Зачем вам наживать врагов среди еврейской прессы? Я не деспот. Понимаю и ваш долг журналиста, и вам честь дорога. Мы пойдем вам навстречу. Так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Я лично позвоню Ивану Митрофановичу, и мы восстановим лжестрадальца в партии, но о преподавательской деятельности не может быть и речи. Пока я жив, его ноги не будет в институте.
«Да, он чертовски осторожен, хитер, немного напуган, но патологически самонадеян и коварен», — подумал Любомир.
«Что, мальчишка, спесь сбита? Потерян, подавлен? Ах, как бы хотелось уложить на обе лопатки», — с сарказмом подумал Злобин.
— Восстановить в партии — это уже полдела. Есть смысл, — вяло ответил Горич.
— Вот именно! Рад, что у нас выработался консенсус. Верю в ваше блестящее будущее.
— Спасибо за добрые пожелания.
— Надеюсь, мы подружимся. Приходите в институт, познакомимся поближе. У нас есть что показать миру.
Встреча и прощание разнились, как соль и сахар. Злобин покинул свое удобное мягкое кресло, подал Любомиру руку, проводил в приемную и еще раз подал на прощанье руку.
— Искренне рад, что у нас появилось много общего во взглядах на это дело. Легкого вам пера и заслуженного успеха.
— Спасибо.
Любомир чувствовал себя гадко. Было такое ощущение, что ему наплевали в душу. Впервые задался мыслью: «А может, он прав? Игра не стоит свеч? Не на того ставлю? Как, бестия, ловко шантажирует. Закрыт основательно. Даже приказ об увольнении не им подписан. Ах, если бы не Камелия. Не унижался бы из-за квартиры, мебели... Жуткое общество. Надзор, контроль, групповщина. Социальная справедливость. Кто внушал, что она возможна через кучку распределителей вечного дефицита? Ненавижу людей! Ненавижу! Надоело! Все мерзопакостны. Бежать к ней, к Олесе. Ее руки, губы, глаза, бескорыстное сердце, естественность во всем. Боже, не дай мне ошибиться, неужели и она временно?
Фомич уловил неважное настроение шефа, решил подбодрить:
— Вчера дочка из школы принесла частушку: «В шесть часов поет петух, в восемь Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ у Горбачева». А? И эту. «Леня Брежнев, открой глазки, нет ни водки, ни колбаски. Нет ни мяса, ни вина. Радиация одна». Во дают детки. Или еще вот это... «Перестройка мать родная, хозрасчет — отец родной, на хер мне семья такая? Проживу и сиротой!» В мою молодость за такие слова — за шиворот да золото на Колыме мыть.
— Демократия гуляет, как пьяная баба на бульваре, — ворчливо ответил Любомир.
Фомич лихо рулил к центру. Вдруг Любомир заметил на тротуаре женщину в красно-белом клетчатом пиджаке. Она, тщетно вскидывая руку, голосовала, но «жигулята» летели мимо.
— Возьмем? — Фомич знал, что Любомир не проезжает мимо беременных женщин, женщин с детьми и инвалидов.
— Что? А?.. Нет, — Любомир умышленно повернул голову в сторону водителя, чтобы не встретиться глазами с женщиной. Не хочу никого видеть и слышать. И вообще, Фомич, надо выращивать овощи, садить бульбу, косить сено и доить корову. Политики и власти предержащие всегда будут лгать, а десять тысяч освобожденных секретарей парткомов будут им подпевать. Общество никогда не добьется гармонии, потому как сам человек по своей природе несовершенен. Отвези-ка меня домой. Чертовски болит голова.
Камелия собиралась в Болгарию, ей предстояла поездка от Союза композиторов на музыкальный фестиваль.
— Ты с машиной?
— Нет. Отпустил в офис. Поработаю дома.
— Я хотела подскочить в Театральное общество.
— Я могу вызвать. Минут через десять позвоню.
— Не стоит. Подъеду автобусом.
— Золотые Пески вам покажут?
— Надеюсь.
— Ты по-новой загоришь. У тебя тело смуглое, загар берется быстро.
— Тебя уже и мой загар, и мое тело давно не волнуют.
— Ты не права. Я устал жить.
— Устал так жить, как мы живем, или вообще жить?
— Не знаю. Духовно устал.
— Послушай Штрауса, Моцарта. Навести отца. С тех пор, как ты почти перестал дарить мне внимание, я научилась сама избавляться от тоски и одиночества.
— Не хочется ехать в Житковичи.
— Понимаю. Ты остаешься в квартире один. Ты приведешь эту даму. Я знаю. Прошу, не оскверняй нашу, мою постель.
— Глупости, — он решил не ввязываться в спор, зная, что жену не переубедить. — Тебе помочь?
— Не надо. Завари кофе. Себе можешь разогреть отбивные. На гарнир возьми помидор. Я поленилась отварить рис.
Выпили кофе. Она уехала, а он прилег на диван. Вспомнилось детство. Огромная, глубокая лужа, наподобие той, которую они объехали полчаса назад, всегда появлялась на его улице после сильного дождя. Он с хлопцами брал в руку полкирпича и становился у края калюги , поджидая жертву. Увидев шкета лет семи-десяти, нежно подзывали: «Эй, иди сюда. Разговор есть». Доверчивая жертва подходила к противоположному краю лужи в ожидании разговора. Вот тут Любомир с ехидной улыбочкой первым запускал в воду свой кирпич к его ногам. Вслед летело еще с полдесятка каменьев. Жертве не удавалось увильнуть, отскочить в сторону. Вода с грязью окатывала ротозея с головы до ног. Малыши и те, что спокойнее, попав впросак, часто уходили домой в слезах. Особенно не везло доверчивому и незлобивому Троне. Минуло два года, три, и вот случилось ему встретиться с Любомиром на одной свадьбе. Были они к тому времени уже в десятом классе, могли и умели выпить стакан-другой вина. Закатил удалой оркестрик вечные «страдания», с пылом и жаром рванулись гости в круг, давай плясать. Любомир был легок на ноги. Само по себе возникло соревнование. Слабые духом, а также те, кто прилично взял на грудь спиртного, сошли с дистанции. Только две пары под возгласы и свист зрителей продолжали показывать удаль и прыть. Троня со своей девушкой и Любомир с подругой. Любомир первым почувствовал, что дыхалка подводит, ноги уже выше колен сводит, но не показал вида, очень не хотелось ему уступать Троне, который хоть и пыхтел, как паровоз, но плясал отменно. «Давай, Троня! Покажи наш род невесте! Давай!» Вышла из круга партнерша Любомира, еще минута — и он покинул площадку. Казалось, сердце вот-вот лопнет. Любомир пошел в сад, чтобы его не видели, оперся на яблоню и не мог отдышаться, кололо в груди. Троня танцевал под аплодисменты еще минут пять в гордом одиночестве. «Глист, глист, он меня победил!» Больше у него не было желания оставаться на свадьбе. На свинцовых ногах, с шумом в голове он ушел домой.