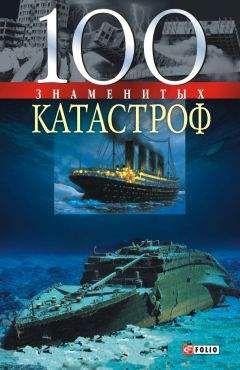— Так я пригоню своего к футболу. Ты, Олеся, ему кричать не дозволяй. Гол забьют, так он дуреет.
Соседка, плавно покачивая бедрами, как перекормленная гусыня, ушла к себе.
— Ты мои спортивные трусы выстирала?
— Да. И трусы, и носки, — ответила Олеся.
— Меня к телефону не зови. Поставь его на кухне, чтобы не отвлекал. Позвонит Жорка Бутромеев, передай, что я ему достал презервативы.
— Складирует он их, что ли?
— Каждому свое. Может, на нос цепляет для устрашения.
Позвонили. Никита был трезв. Перед футболом ему захотелось посмотреть
еще и программу «Время». Он расположился в мягком кресле, вытянув свои длинные костлявые ноги в рваных на пятках носках.
— Август, тебя не узнать. Ты усыхаешь. Бросай командировки, а не то на могиле твоей напишем: «Жертва социалистического общественного питания». — У Никиты было приподнятое настроение.
— В принципе, Никита, ты прав. Куда только власти смотрят. Нет настоящей гласности. А пресса, пресса... ужас... все как при Хрущеве и Брежневе. Вахта урожая, будни шахтеров, ночи космонавтов. Где, где научные разработки? Ведь существует НИИ Минздрава. Что может предложить наука для облегчения стула? Где схемы? Где отруби пшеничные, рисовые? Длительность цикла? Попробуй долбать уголь в забое шахтеру с расстройством желудка. О народе не думают. Здоровый народ, как у американцев, здоровая система.
— Во всем перегнули палку. Сто граммов водочки выпить, пивка — проблема. Очередь, как в мавзолей. Говорят, скоро талоны введут, — Никита был польщен, что Август поддерживает с ним беседу. — Сколько спиртное давало в казну грошей, ого-го! Нету порядка!
— Его по-настоящему никогда и не было. А еще этих недоучек баб к руководству и власти подпускают.
— О чем речь? Да они говядину от свинины отличить не умеют. У тебя в холодильнике пива нет?
— Нет.
— Жаль. Сделай громче. У меня в правом ухе серная пробка... заложило, не слышу. Как думаешь, одолеем венгров?
— Должны одолеть, если Алейников будет в ударе.
— Дай бог, дай бог.
Август сообразил, плотно закрыл дверь комнаты. Еще минута и Олеся бы не выдержала, сделала это сама. Не зная почему, вдруг села писать Любомиру письмо. «Любименький мой сударь! Не знаю, чем и как объяснить мое обращение к эпистолярному жанру, который я основательно подзабыла. Что бы я ни делала, будучи на работе, занимаясь ли бытом, я постоянно мыслями возвращаюсь к нашей встрече и думаю только о вас. Непонятное наваждение. Умом понимаю, что это во всех отношениях грех. Я забираю вас от семьи. Прошу Бога, чтобы он простил мне это. В вас я открыла неведомые мне доселе качества мужчины, человека. Мне очень импонирует то, что вы понимаете меня. Я с радостью переживаю томление, ожидание, надежду, волнения. Жду встречи. Вы мой праздник в море серых будней. Я грущу и мысленно желаю вам счастливого возвращения домой. Целую вас, сударь». Ее осенило вдохновение, она взяла с полки в прихожей сборник Северянина и дописала любимый ею в последние месяцы стих. «Всех женщин все равно не перелюбишь, всего вина не выпьешь все равно, неосторожностью любовь погубишь: раз жизнь одна — и счастье лишь одно. Не разницу характеров, а сходство в подруге обретенной отмечай, побольше верности и благородства, а там и счастлив будешь невзначай. Не крылья грез — нужней земному ночи. С полетами, бескрылый, не спеши, не лучше ли, чем понемногу многим, немногой много уделять души. В желании счастья — счастье. Повстречались. Сошлись. Живут. Не в этом ли судьба? На голубой цветок обрек Навалис, ну что ж, и незабудка голуба».
Она загорелась желанием немедленно опустить конверт в почтовый ящик. Вышла незамеченной в домашнем халате, пробежала почти квартал к почтовому отделению, опустила конверт на адрес его офиса. Ах, как ей хотелось, чтобы оно попало к адресату как можно скорее. До возвращения из Аргентины оставалось долгих три дня.
Истосковавшись друг без друга, они были ненасытны в любви, спешили, как выражались французские романтики, насладиться ее упоеньями и восторгами. Ритуал расставания становился неизменным: бессчетное количество раз они осыпали друг друга поцелуями.
— Мы, очевидно, побили все рекорды.
— Не поняла.
— За такое короткое время тысяча поцелуев.
— Вы сосчитали?
— Прикинул. Может, восемьсот, может, девятьсот.
— Удивительно.
— Догоним до тысячи и передохнем.
— Тогда вы оставите меня? — наивно-настороженно спросила она.
— Нет. Хотя говорят, ничто не вечно под Луной. Когда-нибудь...
— Не говорите. Не хочу. Не надо.
— Не буду говорить.
— Я боюсь этого дня. Дня утраты.
— И не будем об этом думать. Мы чувствуем, значит, живем. До сумерек далеко.
Ее по-детски удивленные глаза готовы были пролить слезу. Это льстило ему. Она не задумывалась более над участью страстной любовницы. Покорно готова была следовать за ним на край света. Втайне он побаивался этой открывшейся вдруг ее уступчивости. Не исключено, что и кто-то другой сможет уговорить ее. Он понял, что ревнует ее. Где эти полузабытые фурии «Тихая» да «Капризная»? Канули в Лету, не оставив даже мизерного желания возвращаться к пережитому с ними. Он спешил к Олесе, и она торопилась на свидание к нему. Ее неловкость, совестливость, стыд, окончательно испарились. Никогда она еще не чувствовала себя такой уверенной, самостоятельной, красивой. Да узнай обо всем Август — ей уже не страшен его гнев. Захочет уйти — пусть уходит. Животворное начало для нее отныне — безоглядная любовь, в которой она уже не сомневалась.
Любомир воспрял духом, что и говорить. Все бы хорошо, да вот беда — донимало его все же незаконченное дело с Барыкиным. Дальше откладывать было и подло, и грешно. В республиканской партийной газете пошел его сухой, в стиле застойного времени «Аргентинский дневник». То же самое, слово в слово, не удосужившись изменить сюжет, повторил он и на телевидении. Иван Митрофанович остался доволен: позвонил, поздравил, поблагодарил. Его фамилия фигурировала несколько раз. Позвонил и Николай Иванович (как быстро он узнал новый номер телефона), сказал, что не торопит, знает про Аргентину, читает дневник, но сообщает, что у него появился еще один обличительный факт вседозволенности ректора.
Любомир сухо пообещал, что и без этого материала достаточно, факты проверены, многое открылось и прояснилось, и что в ближайшее время пойдет первый материал в журнале «Вожык». Растроганный Николай Иванович не стал более докучать, только поблагодарил. Любомир вспомнил про свой должок и отправился на встречу с председателем исполкома, о котором неделю спустя выпустил очерк. Благодарный председатель, который, может, и не считал себя прорабом перестройки, был счастлив, ведь не о каждом пишет «Правда», и обещал дать подвижку этому вопросу. Любомир позвонил Вовику, который по непонятной причине сам не поднимал телефонную трубку.
— Ты от кого прячешься, Вольдемар, от кредиторов или от женщин? Три дня не могу дозвониться. Я твою просьбу выполнил, где твои обещания?
— Я в курсе дела. Дай мне сроку еще две недели, три... На солнце вспышки... и у меня полная творческая импотенция. К тому же участились посещения душ с других планет. Девушки, исключительно девушки. Обещали мою душу забрать в космическое путешествие, — Вовик был в своем амплуа, проворачивая неосексуальную революцию по-белорусски.
— Я тебя с ними познакомлю. Ты пока не готов к высшему космическому существованию. Ты бациллоноситель, ты в плену братоубийственных идей, лжи, поклонения чужим идеалам. Ты далек от божественного начала. Но мы тебя спасем.
— Хорошо, я тебя понимаю, но, друг мой расчудесный, пока суть да дело, пока твои души выбирают, куда лучше лететь и с кем, мне нужен фельетон, через три дня. Компрене?
— Убийца. Ты бы нашел себя во времена красного террора.
— Попроси у своих небесных посетительниц, чтобы они принесли тебе вдохновение.
— Так ты не веришь? Все. Я, бля, без шуток. Через три дня, ровно в пятнадцать ноль-ноль будет фельетон твой, — вспылил Вовик.
— Вот это мужские игры.
Осталось загадкой, кто же вдохновлял Вовика, но сделано это было безупречно. Фельетон был написан к сроку, да вот оказия, пролежал он все мыслимые и немыслимые сроки в портфеле редакции. Как говорят: то чума, то холера, а все человеку не легче. Близорукий главный редактор сатирического журнала встретил Любомира, как доброго старого приятеля, хоть они и не были особенно дружны. Не дожидаясь, главный редактор начал сам оправдываться без хитрости и недомолвок.
— Старик, не крыўдуй! Я тоже хочу кушать. Поверь. Еще у нас в республике сильны консервативные силы, это, старик, не столица-матушка. У нас, как говорят, еще бдят неусыпно у Красного Знамени. Фельетон мощный. Я от этого пижона не ожидал. Но велено фельетон не пущать. Не только учитывая персону автора, который сотворил себе имидж сексуального диссидента, правда, несколько запоздало. В конце концов, мы могли дать и под псевдонимом. Дело в другом. Фельетон категорически не понравился в верхах. Особенно второму, не исключаю, что ознакомлен с ним и Первый. Сам понимаешь. Кастрировать его, переписывать, редактировать нет смысла. Мне лично звонил Иван Митрофанович. Так что уволь, братец, в противном случае уволят меня. Жена на пенсию не вышла, дочь не устроена, дача не достроена, здоровье подорвано... потом не отмоешься... запрут рядовым редактором в издательство «Беларусь», и кукуй на свои сто пятьдесят.