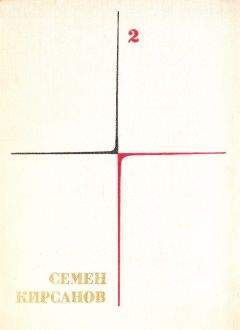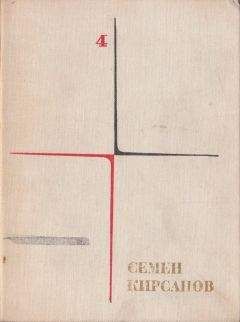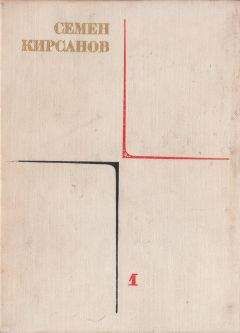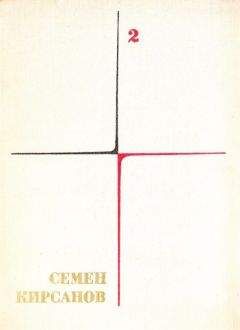Глава эта посвящается ядам и людям, ядами управляющим.
В золотой блистают неге
над людскою массою —
буквы АРОТНЕКЕ,
буквы РНАЯМАСIЕ.
Тихий воздух — валерьянка,
Аптечное царство,
где живут, стоят по рангам разные лекарства,
Ни фокстрота, ни джаз-банда,
все живут в стеклянных банках,
белых, как перлы.
И страною правит царь, Государь Скипидар,
Скипидар Первый.
А премьер — царевый брат
граф Бутилхлоралгидрат, старый, слабый…
И глядят на них с боков
бюсты гипсовых богов, старых эскулапов.
Вечера — в старинных танцах
с фрейлинами-дурами,
шлейфы старых фрейлин тянутся сигнатурами.
Был у них домашний скот,
но и он не делал шкод,
на свободу плюнули
капсули с пилюлями.
— Кто идет? Кто идет? —
грозно спрашивает йод.
Разевая пробку-рот,
зашипел Нарзан-герольд.
— Царь! — орет нарзанный рот. —
Мальчик Сеня у ворот!
Рассердился Скипидар:
— Собирайтесь, господа!
Собирайтесь, антисепты!
Перепутайте рецепты!
Не госсиниум фератум —
вазогеиум йодатум,
вместо йоди и рицини —
лейте тинкти никотини!
Ого-го, ого-го,
будет страшная месть:
лейте вместо Н2О
H2S!
Тут выходит фармацевт:
— Покажи-ка мне рецепт!..
Не волнуйся, мальчик, даром —
тут проделки Скипидара!
Я ему сейчас воздам.
Марш по местам!
Банки стали тихими,
скрежеща от муки,
тут часы затикали,
зажужжали мухи.
Добрый дядя фармацевт
проверяет рецепт,
ходит, ищет, спину горбит,
там возьмет он снежный корпий,
там по баночке колотит,
выбирает йод, коллодий,
завернул в бумагу бинт,
ни упреков, ни обид,
и на дядю Сеня, глядя,
думал: «Настоящий дядя!
Старый, а не робкий…»
Вот так счастье! Вот веселье!
Фармацевт подносит Сене
две больших коробки…
11
Глава главная.
Может, утро проворонишь,
минет час восьмой,
и на лапки, как звереныш,
стал будильник мой.
Грудь часов пружинка давит,
ход колесный тих.
Сердце Рики-Тики-Тави
у часов моих.
На исходе сна и ночи
к утру и концу
с дорогой, пахучей ношей
Сеня мчит к отцу.
С синим звоном склянок дивных,
обгоняя тень,
но уже поет будильник,
бьет будильник день.
Но сквозь пальцы льется кальций,
льется, льется йод,
а будильник: — Просыпайся!
Сеня! День! — поет.
Пронести б коробки к дому!
(Льется йод из дыр.)
А будильник бьется громом,
дробью, дрожью — ддрррр!
Вот и завтра, вот и завтра,
Сеня, вот и явь!
Вот и чайник паром задран,
медью засияв.
Вот у примуса мамаша,
снегом двор одет,
и яичницы ромашка
на сковороде.
И звенит, звенит будильник,
и мяучит кот:
— Ты сегодня именинник,
Двадцать Первый Год! —
Видит Сеня — та же сырость
в комнатной тиши,
видит Сеня: — Я же вырос,
я же стал большим.
Все на том же, том же месте,
только я не тот,
стукнул мой красноармейский
Двадцать Первый Год. —
Сказка ложь, и ночь туманна,
ясен ствол ружья…
— Ну, пора! В дорогу, мама,
сына снаряжай!
Поцелуй бойца Семена
в моложавый ус,
положи в кошель ременный
хлеба теплый кус.
В хлопьях, в светлом снежном блеске —
ухожу в поход,
в молодой, красноармейский
Двадцать Первый Год!
Глава первая
Золушка была бедна,
Золушка жила одна,
корка на воде горька…
Мачеха была карга,
отчим — скупой и злой.
Золушка была бледна,
платьице из рядна,
выпачканное золой.
Золушкины сестры сводные
жили веселые, жили свободные.
Вороными качали челками,
шили платья — пчелиный пух,
и на плечиках плюшем шелковым
лопухом раздувался пуф.
А у Золушки
ни ниточки,
ни кутка, ни лоскутка,
из протертого в сито ситчика
светит яблоко локотка.
Ничего,
кроме глаз тепло-карих да рук,
ни кольца, ни серьги даровой,
ни иголки заштопать дыру,
ни чулка, хотя бы с дырой!
Ничего у нее:
ни червонца в платке,
ничегосподи нет в ларце,
ничевоблы у ней в лотке,
ничевоспинки на лице…
Только золото тянется вдоль ушка,
из сиянья плетеное кружевце…
На дорогу выходит Золушка,
кличет уток — и утки слушаются.
Воробьи по-немецки кричат: «Цурюк!» —
и находками мелкими делятся,
черный уголь от ласк Замарашкиных рук
самородком горящим делается.
И в саду на шесте
деревянный ларец,
и в ларце
чистит клюв
оловянный скворец.
Он личинок ловец, говорун и певец
и недолго живет на шесте, на гвозде;
как махнет за моря Замарашкин скворец,
навезет новостей, новостей, новостей!
Нарасскажет того, чего глаз не видал:
где какая земля, где какая вода…
Размечтается Зойка над жестью ведра,
и слезинка у карего глаза видна.
А из комнат высоких доносится зов,
будто грохнулась об пол вьюшка:
— Да огло… да оглохла ты, что ли, Зо-о…
запропастилась, дрянь… лу-ушка!
У шкафа дубовосводчатого,
у зеркала семистворчатого
примеряют сестры лифчики,
мажут кремами свои личики.
И, как шуба, распахнут тяжелый шкаф,
где качаются платья-весы,
сестры злятся и топают:
— Золушка!
Шпильку дай, булавку неси!
Положи на личико
ланолинчика!
Входит отчим,
осанистый очень,
в сюртуке — английский товар,
он усами усат,
любит волос кусать —
черновязкий фиксатуар.
Отчим шубу берет из дубовых берлог,
и перчатками лапищи сужены,
раззвенелся на белом жилете брелок,
на жене — разблестелись жемчужины.
А у Золушки
ни корсажа,
ни цветка в волосах,
только траурным крепом сажа
по лицу — к полосе полоса.
Глянет мачеха — сразу в пятки душа
(провинилась, ну что ж, прибей-ка!).
Ущипнула за щеку подкидыша:
— Тоже хочешь на бал,
плебейка!
Ну, чего засмотрелась? —
Зубов перебор
клавиатурой на падчерицу:
— Марш на сундук, пшла в коридор.
Осторожно,
можно запачкаться…
Разбери, говорит, чечевицы мешок!
И пошла, волоча оплывающий шелк,
сестры, плюшем шурша, отчим, палкой стуча…
Стеариновым шлейфом оплывает свеча.
Глава вторая
Налетела копоть на волос,
тень
у щек,
а зерна и не убавилось —
туг
мешок.
Чечевицы — небо звездное,
в миске —
горсть,
прилетает ночью позднею
птица —
гость.
Тонкой струйкою крутится копоть свечи,
Замарашка устала — на корточках…
А скворец со двора осторожно стучит
коготком в кухонную форточку.
Он летал высоко в облаках дождевых
и обратно — дорогой привычной…
— Что за новости, скворка? — А он:
— Чив-чивик! —
Голосок у него чечевичный.
Не видала Золушка ничего:
ни сияющих гор, ни воды ключевой —
ничего! —
ничевод ключевых, ничеволков лесных,
ничевоздуха дальних морей,
ничевольности,
ничеВолхова,
ничевольтовых дуг фонарей!
Он к Золушке никнет,
садится на руку,
крылами повиснув,
головой ведет,
то флюгером скрипнет,
то мельницей стукнет,
то иволгой свистнет,
то речь заведет.
Картавит ласково
гортань скворца:
— Я летал до царского
дворца,
да не встретил царь
скворца.
Кипарис густой
в синь воздуха —
это будет твой
дом отдыха!
— Ты придумаешь, скворец,
сказки-странности,
от рассказа в горле резь,
сердце ранится…
— Я крылом лавировал,
видел
над страной
твоего
милого
на птице стальной.
— Эта выдумка, скворец,
в сказке скажется.
Если что со мною свяжется —
грязь да сажица…
А скворец в высоту
вновь торопится:
— Мне лететь на свету
по-над пропастью!
Коготком по плечу:
— Не забудь повести.
Ну, пора — лечу!
Привезу новости!
Через фортку прыгнул скворка
с песней-вымыслом…
Утомилась, — нету мыла
даже вымыться.
Два лица из рам недобрые —
это отчим и жена.
Сидит Золушка над ведрами,
чечевица вся разобрана
до последнего зерна.
Месяц выкатился мискою.
Ночь.
Черно.
Не разобрано бурмитское
звезд
зерно…
Глава третья
Чечевица скатилась — зернышко,
капля с крана упала в сон.
Ничего не видала Золушка,
а заснет и увидит все!
Вся забава у ней — руки в сон потянуть,
утомиться, уснуть и во сне утонуть.
Ноги сонные вытянуть
на простынке из ситца…
Что вчера не довидено —
то сегодня приснится.
Смотрят синие ведра,
веник с вьюшкой беседует.
Сны у Зойки с досмотром,
с «продолжением следует».
Кружка шепчется с хлебного коркой,
печь заглядывает под ресницы.
Все, что Зойке рассказано скворкой,
то и снится,
то и чудится,
то и кажется:
То Жар-птица, то карлик в дремлющей сказке,
то махнет самобранкой Шахразада-рассказчица.
Сны туманные, сны разноцветной раскраски!
Чудится Золушке: в красном камзолишке
принц! Шелестит шлейф, газ!
Лайковой лапою, перистой шляпою —
пусть закружит вальс вас!
Перьями павами, первыми парами…
Из-под бровей жар глаз!
Зала-то! Зала-то! Золотом залита.
Только с тобой весь вальс!
Кажется, светится, снится, мерещится…
В снег серпантином занесена
не просыпается;
и осыпаются,
сыплются,
сыплются,
блестки сна.
Возвращается с бала мачеха,
шубу меха морского сбрасывает,
лесным запахом руку смачивая.
— Кто понравился? — дочек спрашивает. —
Кто гляделся на вас?
Кто просился на вальс?
Как волны, взбегают по дочкам воланы.
— Нам нравится принц, загадали мечту.
— Ой, в ухе звенит! Исполненье желаний —
у принца мильон на текущем счету!
Сестры кружатся, а у отчима
вся манишка вином подмочена.
Много съедено ед,
расстегнулся жилет:
— Мне икается! — засутулился. —
Поскорее, жена,
мне пилюля нужна —
золочёная — доктора Юлиуса!
Пообвисли усы:
— Поскорее неси!
(Подбегает к аптечному улею.)
Нездоровится мне,
а пилюли-то нет!
Замарашку пошли за пилюлею!
Спится Золушке крепко
(а принц на пути
держит туфлю железными пальцами),
видит сон и боится, что будут будить,
так боится — не просыпается.
Спит,
упали на лоб золотинки,
улеглись ресницы в ряд,
прикорнули волосик к волосику,
на затылке спят.
Капля стукнуть боится,
а около мусора
сон тараканы обходят, ползя.
Струйка песчаная волоса русого
тихо,
часами течет на глаза.
Дверь гремит на петле,
половица скрипит,
злая мачеха туфлею хлопнула:
— Зойка, в город беги
да пилюлю купи! —
Ткнула грошик в ладошку теплую.
Поднялась, не поймет,
на щеке сонный шрам,
сном ресницы в наметку зашиты,
и в мурашках рука — не удержит гроша.
Смотрит, ищет у ведер защиты:
— Я не знаю, куда…
Не была никогда…
— Ну, иди!
(Подтолкнула и вытолкала.)
Опустилась и щелкнула щеколда,
синим снегом осыпалась притолока.
Стало щеки снежинками щекотать,
бить в ресницы осколочками стекла.
Стала вьюга над Золушкой хохотать.
Ледяным стеарином стена затекла.
Глава четвертая
Холодно. Холодно!