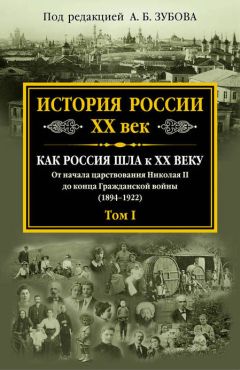Недаром же, надо полагать, и хоронили его с царскими почестями, тогда как Пушкина... Вот что рассказывает А.В. Никитенко о последних почестях великому поэту: «Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею... Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. — А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи, как собаку».143Как видим, Николай вполне отдавал себе отчет в том, кто его союзники, а кто нет. Даже если допустить, что Лотман прав и Николай «вербовал» мертвого Карамзина, то совершенно ведь непонятно, почему так решительно отказался он «вербовать» в союзники мертвого Пушкина. Ведь Пушкин тоже написал и «Стансы», и «Клеветникам России», и «Бородинскую годовщину», которые в свое время пришлись по душе императору. Я не говорю уже о том, что Пушкин был гордостью русской литературы. Почему бы не канонизировать в таком случае и его? Между тем, как свидетельствует тот же Никитенко, «мера запрещения относительно того, чтобы о Пушкине ничего не писать, продолжается».144 И впрямь ведь ни малейшей попытки эксплуатировать его память, в отличие от памяти Карамзина, сделано при Николае не было.
Напротив, Н.И. Греч получил выволочку от Бенкендорфа даже за невинную ремарку в Северной пчеле: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги на поприще словесности».145 И совсем уж скандал приключился с этим злосчастным «поприщем», когда А.А. Краевский, редактор Литературных прибавлений к Русскому инвалиду, оказался единственным, кто отважился бросить вызов официальному запрещению, напечатав трогательный некролог Пушкину, в котором, между прочим, были слова «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща».146
А.В. Никитенко. Цит. соч., ил, с. 197.
Там же.
Там же, с. 196.
Там же.
Глава третья Метаморфоза Карамзина
Выбористории-странницы геРцен
был прав, когда говорил, что в XIX веке самодержавие больше не могло идти в ногу с цивилизацией, хоть и было в союзе с нею в веке предшествующем. И Пушкин ошибся совсем немного, когда писал в письме Чаадаеву, что правительство у нас единственный европеец. Так оно в России и было — до исторического перекрестка 1825 года, когда петровская традиция насмерть схлестнулась с дремавшей все это время под спудом традицией мо- сковитской. Истории-страннице предстоял очередной выбор.
За всеми хитросплетениями событий, за всеми сложностями борьбы политических сил и «архетипов сознания» выбор этот, по сути, был тот же, перед которым оказалась страна в 1560-е. На одной стороне исторического спора по-прежнему стояли самовластье и крестьянское рабство, на другой — перспектива европейской свободы. Что лучше, ясно не только современному читателю, молодой Александр Павлович понимал это, как мы видели, ничуть не менее отчетливо, чем мы с вами. И молодой Сперанский тоже.
Там же.
На следующий день Дондуков-Корсаков, попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, вызвал Краевского, чтобы передать ему «крайнее неудовольствие» министра просвещения Уварова:
«Что за выражения! Солнце поэзии// Помилуйте, за что такая честь?.. Какое это такое поприще?.. Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?.. Писать стишки не значит еще проходить великое поприще!»™7 И это в момент, когда, по словам Аполлона Григорьева, «всякое критическое замечание насчет Карамзина считалось святотатством».148 А ведь и Карамзин не был ни полководцем, ни министром. Разница была лишь в том, что он оправдал доверие своего коронованного патрона, а Пушкин, сколько бы ни старался полюбить тирана, сделать этого так и не смог.
А. Григорьев. Литературная критика, М., 1967, с. 158.
История-странница выбирает, однако, не то, «что лучше», но то, что позволяет ей выбрать расстановка политических сил на каждом новом перекрестке. Как это ни печально, в расчет тут идут не моральные соображения и не благие намерения, хотя бы и обещали они улучшение народной участи, а совсем другие сюжеты. Решает то, на чьей стороне сильный лидер, влиятельный идеолог, критическая масса элиты и геополитическая ситуация. Таковы жестокие уроки исторического выбора.Вот пример неудачного для европейского прорыва геополитического расклада сил: «молодые друзья» Александра, безуспешно пытавшиеся найти путь к отмене крепостного права. Единственным результатом их усилий оказался, как мы знаем, лишь закон от 20 февраля 1803 года о «вольных хлебопашцах», разрешавший помещикам отпускать крестьян на волю по взаимному уговору. Но ведь даже этот более чем скромный результат содержал в себе предзнаменование будущего, хоть практически и незамеченное историками.Во-первых, «вольноотпущенники» наделялись земельными участками в собственность. Нечего и говорить, что Николай, опять-таки следуя завету Карамзина («Земля — в чем не может быть спора — собственность дворянская»),149 это «безумие» запретил и вспомнили о нём лишь в эпоху Великой реформы 1860-х. Во-вторых, закон требовал, чтобы, выкупаясь на волю, крестьяне покидали общину и переходили к подворному землевладению (о чем забыли и при Николае, и во времена Великой реформы и вспомнили только после революции пятого года при Столыпине. И то лишь затем, чтобы забыть еще на три поколения). В-третьих — и это самое главное, — в спорах о законе стала прозрачно ясна расстановка сил в тогдашнем истеблишменте.
Понятно, что самую радикальную позицию занял в нём Александр. Во всяком случае именно он напомнил своим «молодым друзьям» о хронической угрозе пугачевщины («если масса населения начнет кричать и почувствует свою силу, это может стать опасным»). На что друзья ответили ему «указанием на последствия, к коим может привести ссора с дворянством, которое тоже составляет значительную массу».150 Пусть бестактно, но напомнили они императору о судьбе задушенного отца — и он капитулировал.
Н.М. Норомзин. Цит. соч., с. 72.
ИР, вып. 1, с. 37.
Так уже в 1803 году высветились реформаторские лимиты самодержавия. Стало понятно, что, едва «значительная масса» крепостников встанет грудью на пути выхода России из забрезжившего на горизонте нового исторического тупика, лидера у реформаторов не будет. Парадоксальный выход из положения предложил в 1809 году молодой Сперанский: ограничить самодержавие с тем, чтобы усилить позиции «единственного европейца в России». В надежде, что при выборной Государственной думе и выборном Сенате реакционная помещичья масса будет достаточно разбавлена прогрессивным крупным землевладением (большинством Вольного Экономического Общества) и городской буржуазией. И тогда Верховной власти будет легче сломить сопротивление крепостников.
Это была гениальная мысль. И если бы её удалось тогда осуществить, Россия скорее всего избежала бы нового тупика, затянувшегося до самого 1917-го, когда очередная пугачевщина, возглавленная «партией нового типа» и впрямь сокрушила монархию. Но в первом десятилетии XIX века все карты, как мы помним, смешало обстоятельство совершенно непредвиденное, нисколько не зави- J севшее ни от Сперанского, ни от императора Александра, ни вообще от России — и если уж предопределенное, то европейской, а не русской историей. Вдело вмешались высокомерие Наполеона, гегемонизм Франции, вторжение Великой армии в Россию, пожар Москвы. И настроение общества, захлестнутого мощной националистической волной, повернулось на 180 градусов.
Еще недавно прогрессивные крупные землевладельцы слились в патриотическом негодовании с реакционной помещичьей массой, в великосветских гостиных брали штраф за разговоры по- французски, барышни являлись на балы в кокошниках, Карамзин написал свою Записку — и на фоне этого нового, консервативного национализма европейский проект Александра стал вдруг выглядеть «антинациональным», а Сперанский предателем.
Тогда же выяснилось и другое: у либеральной реформы не оказалось не только лидера, подобного Петру, но и идеолога, подобного Крижаничу. А когда, после разгрома Наполеона и европейского похода, зародилось, наконец, то, что назвал в X главе Онегина Пушкин «искрой пламени иного», т.е. идеология нового прорыва в Европу, Александр уже полностью утратил интерес к какой бы то ни было ре-
форме. На противоположной же стороне как раз тогда и явился сильный идеолог контрреформы, «Крижанич навыворот» — Карамзин.
Вот из какого материала пришлось выбирать истории-страннице на перекрестке 1825 года. На стороне московитского выбора стояли и новый венценосный лидер, и замечательный идеолог, и большинство элиты и благоприятная геополитическая ситуация. А на стороне европейского — лишь оппозиционная идеология безнадежного меньшинства. Конечно, найдись среди декабристов какой-нибудь русский Дантон, успех восстания, пусть хоть временный, мог бы снова смешать все карты. Но восстание было подавлено. И что же еще оставалось нашей страннице, как не выбрать победителя?