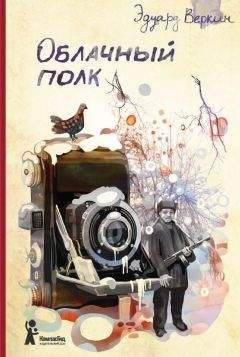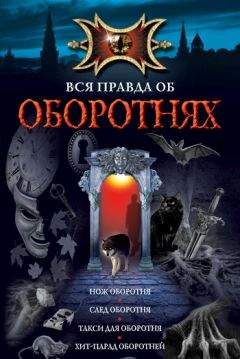– Уходим! – просипел Глебов.
Все быстро собирались и выходили в дверь. Я хотел помочь Санычу с Алькой, Саныч он повернулся, поглядел. Совсем как тогда, в лесу, с этим почтальоном.
Мы вышли на улицу. Еще толком не расцвело, звезды висели, и луна еще не убралась, воздух был чужой и холодный, а одна звезда висела ниже остальных, крупная, то ли Венера, то ли Меркурий, не знаю, цепляла за баню.
Все молчали.
Во дворе встали вдоль стены.
– Идем к реке, – шепотом сказал Глебов. – Быстро. Никому не стрелять. Всё.
Забор был повален, перебрались через него, и, пригнувшись, пошагали к реке. Деревня закончилась, начался пологий склон, старые черные бани с поленницами. До реки метров пятьсот, жаль, что оврага нет, по нему, наверное, проползли бы. Кусты, занесенные снегом, тихо. Собаки не лаяли. А вчера, когда мы приходили, брехали, а теперь тишина, только снег под ногами.
Обидно, что она здесь осталась, даже не похоронили. Одна, а эти сволочи по-хорошему ее не похоронят, надо было хоть дом им сжечь… А может и нет фашистов, может Глебов ошибся, всю ночь не спал, причудилось ему, послышалось, нет никакого отряда.
Двигались быстро, перебежками, от бани до поленницы, от страха было тепло и очень ясно в голове. Почему мы не ушли раньше… На час раньше и нас бы уже не достали. Ясно. Час назад она была еще жива, умирают обычно утром, все, и кто верят и кто не верит.
Справа ударила очередь. Щенников сразу упал, и еще один упал, тот бородатый. Кто-то подхватил уроненный Щенниковым пулемет.
– Рассыпаться! – закричал Глебов.
Но мы не рассыпались, мы кинулись к реке. Егеря уже обошли сбоку, и наверное сейчас обходили с другого, подковой, мешком, и вырваться можно было только через воду. Слева начались заборы и бани, мы пробежали почти полдороги, Глебов опять что-то скомандовал, я не понял. Пулемет оказался уже у него, только патронов не было, лента съедена. По нам стреляли с разных сторон, со стороны деревни и сбоку, автоматы и винтовки, но все мимо. Далеко еще, только пулемет достал.
Глебов катился к реке. Так ему, наверное, казалось. На самом деле он катился к бане, а может, он и хотел к бане.
Страх. Тот самый, что ворочался с вечера в животе. Только с вечера он был холодным, а сейчас наоборот, жгучим и безнадежным. Я опустил глаза, обнаружил на ватнике дырку. Прямо в пуговицу, расколов ее на две половинки. Горячо.
Упал.
Сунул автомат в снег, разогретый ствол пшикнул, знакомый звук, почти домашний. Горячо в животе, точно проглотил кипящего подсолнечного масла, очень жарко…
Перевернулся на бок. Надо остудиться…
Под фуфайкой была кровь. Она протаяла сквозь снег, я видел, сухая трава, и опилки, и мертвый жук, и земля, самая обычная.
Я стал стрелять. Не очень понимая куда. Я знал, откуда стреляют в нас и сам стрелял в ту сторону, длинными, очередь, очередь, очередь, все. Диск пустой. Попытался дотянуться до рюкзака, не получилось. Вот, метрах в двух, почему…
Я оглянулся.
Саныч лежал недалеко, за поленом. Он был сосредоточен. Не стрелял – не по кому. Немцы прятались за сараями и за плетнем, все равно не попадешь.
Дотянулся до рюкзака, размазав красное по земле, выгреб патроны, стал снаряжать диск, патроны рассыпались, я пытался их собрать, но они хитро выскальзывали из пальцев. Как тогда, как караси, маленькие, золотые, между красных рябиновых ягод.
Глебов махал рукой в сторону реки и показывал мне кулак. Стали мерзнуть пальцы. И ноги. А боль все не приходила, только жжение.
– Беги!!!
Я услышал.
Я вскочил и побежал. Это оказалось очень легко, наверное, из-за этого страха. А еще я почему-то чувствовал себя совсем голым на этом широком снегу, и каждую секунду ждал, но не случилось, я просто упал, не понял почему.
Рядом плюхнулся Саныч.
Развернулся в снегу, стал стрелять. Короткими, правильно. А я смотрел на реку.
Потом мы снова побежали, Саныч уже тащил мой автомат, а я думал – вывалились ли у меня кишки, я очень боялся увидеть собственные отвратительные кишки…
Саныч пнул меня, схватил за руку и поволок по снегу, а я только брыкал ногами, но потом все-таки поднялся.
Собрались у последней бани. Дышали тяжело, всхлипывая. Глебов прислонил к стене пулемет, привалился сам.
– Надо в лес, за реку, – сказал он. – Сейчас побежите… Оружие держите. Не отстреливайтесь, только бегите, только вперед. Я скажу когда…
Но Глебов не сказал. У нас над головой грохнуло, крыша бани разлетелась, в воздухе повисли доски, куски дранки, из сруба выдавило бревно, мы упали, и тут же чуть напротив нас, метрах в двадцати рвануло.
Минометы.
Рядом. Взрыв и шелестение осколков вокруг, и тут же я вскочил и побежал, что было сил, прижимая руками к животу фуфайку.
Сбоку еще кто-то бежал, рвались мины, горела баня, с неба падали дрова, свистело и грохотало и неожиданно наступали необъяснимые моменты тишины.
Снег на склоне оказался неглубоким и плотным, я почти не проваливался и совсем не падал, разъехался только, ступив на лед, оставил красную кляксу.
– Не останавливаться! – заорал Глебов. – Бегом!
Река неширокая, метров пятьдесят, речушка, рывок еще…
Меня повело в сторону, я вдруг понял, что сейчас умру, через минуту. Это было какое-то огромное знание, ощущение… невероятное, описать это нельзя, это свалилось вдруг и подмяло, но Глебов оказался рядом. Он схватил меня за ремень и потащил за собой. Рядом бежали, почему-то совсем незнакомый мне человек, и еще двое справа.
Река все не кончалась, мы все бежали, Глебов держал меня за пояс, не давал упасть, а потом я почувствовал под ногами землю, схватился за кусты и пополз вверх.
Оглянулся.
Саныча с нами не было. Он лежал на склоне за рекой, возле вымерзшего куста, уткнувшись лицом. Я испугался, но он поднял голову и стал стрелять.
Я не видел немцев. Саныч стрелял и с той стороны стреляли, но я не видел никого, склон, спускающийся к воде был безлюден и пуст, разгоралась с задорным треском баня, война продолжалась.
– Вперед! – сипел Глебов. – Вперед, суки!
Мины рвались еще на том берегу, разбрасывая по белому рваные черные пятна, чуть дымящиеся воронки походили на дырки от пуль, как будто кто-то засевший далеко-далеко на небе расстреливал землю из огромной винтовки.
Саныч перекатывался между кустами, вжимался в снег, затем поднимал голову, стрелял.
Снег оказался глубоким, мы застряли, я завалился. В голове стало темно, упал лицом в холод, понял, что не встану. Меня перевернули. Глебов, лицо перепачкано кровью, засохшей, и свежей, и уже темной, Глебов очень хотел спать, такие глаза бывают у невыспавшихся, желтые, непроглядные. Он схватил меня за ворот фуфайки и поволок, вверх, по крути, застонал, выдернул на берег. Отдышался, поставил меня на ноги, привалил к дереву.
– Идти можешь?! Надо идти!!! Туда!
– Смогу, – ответил я.
– Тогда иди!
– Смогу…
– Вперед! – крикнул Глебов. – Не оглядываться! Вперед, вперед, бегом! Бегом!
Он оторвал меня от березы и подтолкнул, осторожно, стараясь не повалить, бережно, ласково, как отец.
Я сделал несколько шагов, я, конечно же, оглянулся.
Глебов уже переходил реку. Возвращался. Солнце показалось из-за леса, светило ему в бок, по снегу плясала худая нескладная тень с длинными руками.
Глава 14
Поезд стал замедляться заранее, город еще не начался, а паровоз загудел, сбросил скорость, за окном поплыли закопченные кусты, сквозь прокрытую сажей листву умудрялись прорисовываться белые цветы шиповника, наверное, недавно расцвели.
Я нетерпеливо поспешил в тамбур, но там уже собралась очередь таких же торопыг, с чемоданами, баулами и корзинами, город приближался и народ томился, обливаясь потом, окуриваясь «Беломором», матерясь и похохатывая. Потом кто-то не вытерпел и открыл дверь, однако прохладней не стало, зато внутрь стала пробиваться машинная гарь, и это тоже не очень-то смутило пассажиров, все хотели вырваться на свободу из раскаленного вагона.
Но станции все не было, долго тянулись промышленные пригороды, элеваторы, трубы и теплообменники, двухэтажные дома дорожных рабочих, кривые улочки, депо с бесконечными вагонами и распотрошенными паровозами, много железа, цементные цеха, и желтая мать-и-мачеха, пробивающаяся между залитыми мазутом шпалами.
Станция выскочила неожиданно, появилась проводница, и по обыкновению принялась ругаться на всех, но никто на нее не обижался, так у проводниц принято. Поезд остановился и стал выпускать людей из душных купе и коридоров.
Писатель ждал меня на скамейке, напротив цветочной клумбы с фиолетовой звездой – видимо, перепутали семена. Я его сразу узнал, писателя, едва он поднялся мне навстречу.
Не думал, что это он.
– Здравствуй, – писатель протянул мне руку.
Виктор. Дохлый неумелый корреспондент, осень сорок второго, испортил две пленки.
Рукопожатие у него было крепким, вырос. Я тоже.
– А вы изменились, – сказал он.