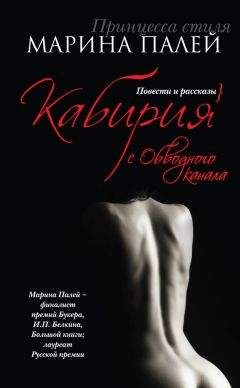И, в этом смысле, инструмент его познания столь же несовершенен, как у любого другого представителя рода хомо, будь то пьяный сантехник, неопохмелившийся слесарь или зловеще трезвый дворник, а именно: все они меряют окружающих на свой аршин. И, если сантехник твердо считает, что все его клиенты (все люди вообще) – сволочи (как он сам), то интеллигент взволнованно убежден, что считать ежедневно пьяного в соплю сантехника сволочью – нехорошо, неморально, и, главное, недостойно интеллигентного человека, потому что и он, в соплю пьяный сантехник – тоже человек; а уж думать о проходимцах у власти, что они сволочи, – тем более нехорошо, неморально, недостойно интеллигентного человека – потому что они – тоже люди; осуждать их за человекоубийства тем более нехорошо, потому что людям свойственно ошибаться – и как раз человекоубийства-то, запущенные на полный ход людьми у власти, ярче яркого доказывают, что люди у власти – тоже люди. (Уф!)
Короче, Петрова потому доверила своего козла соблазнам моего изобиловавшего любострастием огородика, что, вообще говоря, никогда мне не врала – и знала, что я тоже не подведу. То есть доверяла мне лично. И потом, помните? – интеллигентный человек обязан есть все, что ему дают... Ну не за волосы же тащить почти московского недожениха к себе на Гражданку, где в одной комнатке на троих сейчас уже спят – или, что хуже, не спят – ее мамаша-эскулапша и годовалый младенец? Если бы он, кавалер, повлекся на край Питера добровольно – ну, тогда ладно: можно было бы уложить его в пятиметровой кухне. А так... По крайней мере, у меня, ее подруги, не наблюдается вопящего по ночам дитяти... Зато завтра они, то есть Петрова и Юбкарь – вместе! – пойдут в Русский музей! В Эрмитаж! Возможно, даже в мороженицу «Лягушатник»! Весь день для них – впереди! Вся жизнь! (Так, наверное, она успокаивала себя в такси, пока шофер – одновременно с фирменным «куда едем» и «накиньте» – привычно кумекал, как бы содрать четыре шкуры с этой юродивой.)
Последнее, что я помню, проваливаясь рядом с девочкой в краткий сон (надо было вставать уже в семь), – мой интимный ей на ухо шепот: «Не будет у тебя трехи до понедельника?» – и девочкин жест, когда она, шмыгнув носом, протягивает руку – и вкладывает в карман моих висящих рядом на стуле джинсов приятно шуршащую бумажку.
Глава 8
И вот наступило утро, но всё еще длится ночь
Тем утром я направилась в царство Троглодиты – внеурочно подменить Василису Петровну. На «основной» работе взяла отгул, честно купленный стаканом крови.
Ехала одиннадцатым трамваем на Васильевский остров, ловя себя на привычном удивлении. Последние годы меня брала, скажем так, вельми нехилая оторопь оттого, что в этом еле живом, расхристанном, изуверски растерзанном царстве-государстве каким-то необъяснимым образом, то есть наперекор любой логике – всё еще ходят трамваи.
Почему-то поражала живучесть именно трамваев. В них, стареньких, было что-то сиротское и непоправимо одинокое. Ну вот представим, как регулярно ползает на работу, по регулярно бугристому гололеду, одноногий пенсионер девяноста лет. Казалось бы, он неизбежно должен околеть, стать частицей всеобщего оледенения. Но нет, ползет. Ползает. То и дело, ежедневно, перекидываются в «мир альтернативы» твои тридцатилетние одногодки – кто словно бы «сам по себе» («Потому что думать надо было!» – «А вот нет, как раз думать-то надо было меньше!»), кому гуманно пособляют водка, лодка и молодка, а этот, безногий, с катарактой, катетером, Альцгеймером и Паркинсоном заедино – vivre pour vivre! – ползет себе и ползет. Куда? зачем? – не дает ответа.
(Ну да – подзубривали в ср. школе, а то как же ж: «Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить – только жить! Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за это подлецом называет». Но на меня эти заклинания почему-то никогда не действовали. И автор их, икона для иконозависимых, авторитетом никогда не был. Почему? А кто ж его знает, почему.)
Спать хотелось ужасно. Ведь покемарила всего часа три. Не представляла, как выдержу сутки. И вот – сюрприз: оказывается, Василису Петровну должен подменить кто-то другой, а мне надо всего лишь посидеть на какой-то лекции о международном положении.
Пристроившись в теплом вонючем уголке, я, сквозь сон, слышала, как, в ответ на призыв о рацпредложениях, рабочий голос хозяйственно произнес: предлагаю сдать бутылки, а средства отправить в Фонд мира!.. Затем возник гогот («здоровый», и сиплый, и с кашлем – и всякий) – а ему, вперебивку, встречное рацпредложение: давайте лучше в Фонде мира попросим средства на бутылки. Или мне это приснилось?
А когда кошмар закончился, я, шагая по Среднему проспекту, долго не могла поверить, что свободна. Свободна! Времени в запасе оказалось так много, что хотелось даже немного оттянуть миг наступления нежданно-негаданной полной свободы. Свободы на целый день! А было всего одиннадцать утра!
Да: надо оттянуть. К счастью, оказалось, что занятость даже придумывать себе не надо: следовало ведь что-нибудь купить из еды... Хавчика, как говорит девочка. Там же, на Среднем, зашла в гастроном. Полезла в карман джинсов достать одолженную у девочки треху...
А вытащила стольник.
Возле дома зашла в «Генеральский». Кассирша оказалась, к несчастью, в своем уме и потому, увидев сторублевую купюру, отказалась выбивать мне две бутылки кефира и сто граммов сыра. В магазине «Стрела» повторилось то же самое – с поправкой на иной политес кассирши. Она сказала мне – буквально – следующее: мужу своему яйца крути. С этим не до конца ясным заданием я двинулась в последующий за «Стрелой» молочный. Там кассирша дала мне рекомендацию совершенно иного свойства: пойти для размена в универмаг «Фрунзенский», но, поскольку там за здорово живешь тоже не разменяют, следует сначала купить что-нибудь крупное, например, люстру.
Обогащенная этими не вполне стыковавшимися советами (хотя это как посмотреть), я обратила свои стопы домой.
Девочка должна была находиться в этот час на сеансе позирования, а ночной гость – у Петровой. Почему-то разбитая, взбираюсь по лестнице. Свет в коридоре не зажигаю.
Открыв дверь в комнату, я вижу на моей кровати два голых тела – лежащих как-то совсем порознь. Нет, почему «тела»? Так ведь пишут о мертвых. А эти тела были вполне даже живые, хотя словно бы окаменевшие. Но их первоначальное движение я всё же успеваю заметить – то есть живые тела обращаются в каменные прямо на моих глазах, как в сказке: когда я открыла дверь, они отпрянули друг от друга: одно тело, покрупней, по-лягушачьи (по-жабьи?) соскочило (соскользнуло) с другого, помельче, – и уткнулось своей лицевой частью в ковер в страшных персидских розах, предоставив мне на обозрение свои выпукло-вогнутые ягодицы с резко выраженной плодовой двудольностью.
Другое тело, словно залитое только что извергнутой на него вулканической лавой (отчасти так оно, вероятно, и было), окаменело лицом вверх; притом глаза, устремленные в потолок, были настолько пусты, что походили скорей на глаза статуи, и, загляни сюда сейчас эскулап (или, например, как скажут в недалеком будущем – рэкетир), ему потребовалось бы, полагаю, прижать к этому телу, по меньшей мере, раскаленный утюг, чтобы узнать наверняка, какие именно признаки – жизни или смерти – в данном случае взяли верх.
Я делаю пару шагов к окну и, резко громыхнув, раздвигаю шторы. Затем говорю: детки, в школу собирайтесь! петушок пропел давно! И добавляю: давны-ы-ым-давно. (Что трудно назвать неправдой: настенные часы показывают половину первого.)
Потом я подхожу к телесам прекрасной Галатеи, чьи взоры устремлены сугубо ввысь (видимо, к Г. Богу), – и впихиваю меж ее потных, липких, плотно сжатых бедер сторублевую бумажку. Потом направляюсь, ясное дело, в ванную. Где хорошенько мою руки.
Если какой-либо мыслитель предположит, что «я поняла всё», а потому была «совершенно ошарашена», он жестоко ошибется.
Во-первых, тот, кто «понял бы всё», ошарашен уж никак бы не оказался (ну, перепихнулся мальчонка с сучонкой – тоже мне, восьмое чудо света).
Во-вторых, мыслитель будет ошарашен, скорее, моим заявлением: наличие в совместной постели нескольких голых задниц вовсе не является для меня неоспоримой уликой прелюбодеяния.
Это вообще не улика. Ни в его библейском, ни в бытовом, ни в судебно-медицинском смысле. Нет, не потому, что совершить грехопадение желавшие этого, допустим, не успели (прелюбодействуешь в сердце твоем), и не потому, что я хочу ввергнуть любителей (невозбранного салонного трёпа) в схоластические дебри на тему «что же считать истинным прелюбодеянием», а просто потому, что для меня такое положение вещей вовсе не является неоспоримой уликой прелюбодеяния – даже в его «общераспространенном понимании, а именно: конгруэнтного соединения и плотного трения экстернальных органов репродукции.