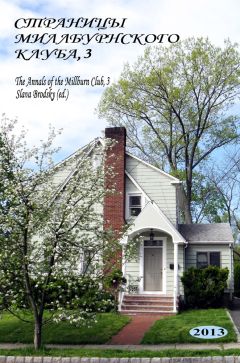Вот еще один удивительный образ (фрагмент), 1937 год:
В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, –
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом –
И слепой и поводырь...
Или вот еще, тоже 1937-й (окончание):
…И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке –
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
– Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!
2. «Тревога» – «Лирика» (динамическая корреляция 0.70, статическая – 0.60). Я остановился на этой паре, поскольку, вообще говоря, тревожные стихи могут быть и не связанными с личностным восприятием, посвящены «тревоге» как таковой (как мог бы писать, скажем, философ), – например, как здесь («Фаэтонщик», 1931, фрагменты):
На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали –
Было страшно, как во сне.
Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола погонщик,
Односложен и угрюм.
...
Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
Здесь есть явная отстраненность, описательность. Но в подавляющем большинстве случаев тревога, печаль, страх ощущаются поэтом исключительно личностным образом, то есть вполне можно сказать, что подобные эмоции были для него очень характерны (все предыдущие примеры именно лиричны). При этом, как вспоминает Надежда Мандельштам, О. М. часто бывал очень весел и остроумен – он отнюдь не тосковал все время… Те щемящие строки о «ненадежном году рождения» были написаны в начале марта 1937-го, а вот такие – за одну-две недели до того, 24 февраля:
О, эта Лена, эта Нора,
О, эта Этна – И. Т. Р.
Эфир, Эсфирь, Элеонора –
Дух кисло-сладкий двух мегер.
3. «Удачные строки» – «Лирика» (динамическая корреляция 0.82, статическая – 0.43). Такое ощущение, что О. М., хотя и писал множество стихов на «прочие темы» (доля лирики в его творчестве составляет 46%), был в них далеко не так успешен (конечно, исходя из моего понимания «успешности»). Хорошие строки содержатся в 43% лирических стихов, в то время как во всех остальных – лишь в 7.5%, то есть почти в шесть раз меньше. О. М. хорош (велик, как многие думают) именно как лирический поэт – лишь констатирую очевидный факт. А вот примеры нескольких очень хороших, но не лирических строф, из тех самых 7.5%:
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Две последние строки – блестящее и нетривиальное определение красоты, которое может войти (или уже вошло) в книги по эстетике. Или вот:
В пол-оборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Это об Анне Андреевне, в 1914 году. Потом ей не раз припомнят «Ложноклассическую шаль», оценили современники и потомки удачный образ. Или вот – с политическим уклоном:
Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!
«Таинственная карта» – это абсолютно здорово. А уж на моих глазах как она менялась, и раз, и два, и три за 30 лет... И сколько еще там тайн, быть может. И вот последнее, хотя еще есть:
Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Непоправимая ночь – это нечто...
4. «Темные строки» – «Удачные строки» (динамическая корреляция 0.89, статическая – 0.34). Итак, наблюдается два феномена. Чем больше удачных стихов в каком-либо году, тем больше в этом году и темных строк. Но, что еще интереснее, примерно в трети стихотворений и сильные, и темные строки находятся одновременно. Содержание темных строк среди стихов с удачными строками в два с лишним раза выше среднего уровня (индекс 2,07, табл. 3). Такого рода комбинации были, конечно, замечены раньше и вызывали у различных авторов желание как-то примирить то и другое – обычно «темное» объяснить и сделать его тем самым «светлым», а сильные строки оставить как есть (а то и усилить далее за счет темных). Этот дух хорошо передается, например, следующими словами М. Гаспарова [3]:
«"Грифельная ода" (1923) – заведомо одно из самых трудных произведений Мандельштама. Она не переставала привлекать внимание исследователей: по числу работ, ей посвященных, она уступает разве что "Стихам о неизвестном солдате"... Во главе этих работ стои́т энциклопедия мандельштамовской поэтики – "Подступ к Мандельштаму" О. Ронена, где анализу "Грифельной оды", преимущественно со стороны контекстов и подтекстов, посвящена половина книги...»
Далее автор посвящает свою статью (и чуть позже другую, [4]) детальнейшему анализу сохранившихся черновиков «Оды» и расшифровке на этой основе ее многочисленных, воистину невнятных мест (другие авторы интерпретируют разные места «Оды» по-разному [2, 12]).
Б. Сарнов приводит несколько примеров, когда даже очевидные (не темные!) места интерпретируются авторитетными специалистами различно [10]. Прекрасные, уже цитированные строки насчет «девяносто первого ненадежного года» понимались М. Гаспаровым как готовность поэта подчиниться «перекличке» веков, в смысле – встать под знамена новой власти (то есть как «просоветские»). В то время как Н. Мандельштам, ближайший к автору человек, воспринимала их как отголосок необходимости «вохровской пeреклички» в ссылке (то есть как «антисоветские»). Сам Б. Сарнов рассматривает эти строки как свободные от политических аллюзий, связанные с общей трагичностью времени или даже с надмировыми силами (что также очевидно и для меня, хотя и без надмировых сил). Что же говорить о куда более невнятной «Грифельной оде» и других вещах!
Я абсолютно согласен с тем, что литературоведческие исследования способны многое прояснить (как и многое запутать, судя по приведенным и другим примерам). Я согласен также с тем, что деятельность по прояснению, интерпретации, комментированию и т.п. совершенно необходима или, по крайней мере, высоко востребована в человеческой культуре (скажем, интерпретации Шекспира или, тем более, Библии породили целые культуры сами по себе). Но позволю себе сделать одно общее замечание на этот счет.
Интуитивно ощущаемое очень давно, но получившее твердую прописку в искусствоведении понятие beholder share («доля созерцателя, зрителя») имеет фундаментальное значение для понимания нашего восприятия искусства. Фраза «Beauty is in the eye of the beholder» («Красота – в глазах созерцателя», в смысле – не в самом произведении художника), принадлежащая крупнейшему искусствоведу Э. Гомбричу (E. Gombrich, [15]), имеет очень глубокий смысл. Современные данные психологии и науки о мозге (neuroscience) по поводу наших способов восприятия искусства полностью подтверждают этот взгляд на вещи, что блестяще продемонстрировано в недавней монографии Нобелевского лауреата Э. Канделя [14]. Когда я смотрю на картину или читаю стихотворение, я, сплошь и рядом, понятия не имею об обстоятельствах жизни автора в этот момент времени или о его мыслях и чувствах, или о причинах, по каким он написал те или иные строки (если таковые причины вообще возможно разыскать) и т.д. Я вижу нечто, что он пытается донести до меня, и в меру своего разумения и эмоционального состояния либо воспринимаю это как что-то близкое, то есть эстетически значимое, либо нет.
Чем больше я знаю, однако, о каких-то частных обстоятельствах, тем сложнее мое восприятие предмета искусства, причем изменение может быть в любую сторону от того, которое было бы при моей полной девственности. «Я помню чудное мгновенье...» огромным количеством людей воспринимается уже почти двести лет как гениальный шедевр любовной лирики. Какая-то их часть знает об адресате (Анне Керн). Какая-то (меньшая) знает также и о более позднем письме Пушкина С. Соболевскому насчет того, что «...с помощию божией я на днях "…"» ту самую Анну. Еще какая-то часть знает даже о том, что «гений чистой красоты» заимствован автором (без ссылки, конечно) у В. Жуковского (с одной заменой: «чистый» на «чистой»). Как все эти «знания» влияют на восприятие стиха? Два последних обстоятельства должны работать, в принципе, на понижение впечатления, и, возможно, у некоторых так и происходит (то есть «цинизм и пошлость» Пушкина переносится на снижение романтического образа в стихотворении, а «плагиат» воспринимается как нечистоплотность). Другие игнорируют подобные факты или всячески не хотят их связывать с лирикой как таковой (по принципу «Я поэт – тем и интересен», а все остальное не имеет значения). У третьих само это знание переплетается с восприятием стиха и обогащает его. Вопрос о том, как именно всевозможные обстоятельства влияют на восприятие, насколько я знаю, изучен с количественной стороны очень слабо. Если следовать самой логике литературоведения, они (обстоятельства) играют исключительную роль, иначе люди бы не тратили свою жизнь на писание статей и книг о своих героях – писателях. С позиций же тех, кто эти труды никогда не берет в руки – « Я помню...» и так прекрасно.