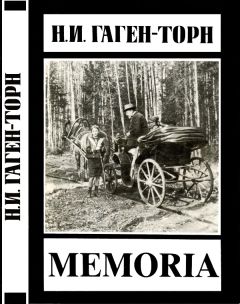Преодолевая его, Юрий взял меня под руку, облизал пересохшие губы и тихонько запел:
С песней звонкой
Шел сторонкой
С любушкой своей
И украдкой
Да с оглядкой
Целовался с ней...
И как будто захлебнулся, оборвал и опять начал. Заглянул мне в глаза. Наверное, глаза что-то сказали, потому что он наклонился и поцеловал, а потом, убыстряя шаг, запел уже уверенно, снова остановился, еще раз заглянул в глаза и прошептал: — Хорошо тебе? Хорошо?
Я кивнула.
— А мне так хорошо, что даже не знаю, что сделать.
— Тебе тоже страшно?
— Очень! Уже много месяцев...
— Чего же... Чего тебе страшно?
— Тебя. Того, что так, так люблю тебя, что не знаю, что же мне делать с этим. Как жить? — Зеленые потемневшие глаза его стали строгими, почти страдальческими, брови изогнулись, сходясь к переносице. — Как вместить такую любовь? Ведь она заполняет все!
— Разве она не радость? Мне тоже было страшно, а сейчас так стало радостно, что, кажется, я поднимусь выше Петропавловского шпиля, чайкой полечу к морю... Смотри, смотри: все было синее, торжественное и странное на востоке, а теперь — какая заря!
За Литейным мостом встала тонкая желтая полоса. В высоком позеленевшем небе строились ряды прозрачных розовых облачков... Лиловые тени убегали. Воздух и камни зарозовели.
— Как великолепно жить на свете! Как великолепно, а люди мучаются. Ну для чего вот мы мучили друг друга?
— Не знаю! Черт меня знает, почему я мучился всю зиму?.. Не мог сказать... Ты — лучше меня! Поэтому у тебя все радостно и просто получается. А я боялся. И злился.
— Как все это странно. Ты совсем свой, можно все сказать, а сколько месяцев была стена! А теперь — вместе!
— Совсем, совсем будем вместе, да?
— Но ведь через несколько дней ты едешь на Байкал, а я в Лапландию... На долгие месяцы!
— Какой я непростительный идиот! Не сумел раньше сказать... Вместе бы ехали!
— Хорошо вместе, но, знаешь, может быть, так и лучше. Слишком странно: совсем вместе. Ответственно как-то! То, что совершается, от тебя не зависит. А надо — еще открыть мир, а потом уж найти друг друга. Надо ждать, когда рассветет.
— Оно уже взошло, посмотри!
Золотые лучи брызнули из-за домов...
Отъезд
Геологи уехали на Байкал. А у нас выяснилось, что ни Лиза, ни Федя не могут выехать в ближайшие дни. Я предложила: поеду в Мурманск одна, пойду в облисполком, зарегистрирую нашу практику, выясню, где кочуют лопари, а они достанут фотопластинки, тетради и все оборудование, Лиза съездит к отцу. Все согласились. Я получила командировочное удостоверение и литер на проезд до Мурманска.
И вот я — на верхней полке вагона. Конечно, неплацкартного. От резкого толчка я открываю глаза. Солнечный луч осветил рыжую краску вагонной полки и надписи на ней. Я повернулась к окну.
Умытое солнце покачивалось над редкими соснами. Вчера в городе были лето, пыль, жара. Поезд настигал уходящую весну. На земле стоял туман. За туманом наметилось синее озеро. Стая длинношеих птиц поднялась, полетела, опять опустилась на воду.
— Как вы смотрите на теорию Маха и Авенариуса? — вдруг спросил мужской голос с нижней полки. Парень в серой рубашке приподнял треугольник лица. Глубоко, наискось, посаженные серые глаза, твердые губы...
— Вы меня спрашиваете? — удивилась я.
— Вас, конечно. Читаю Ленина и думаю, почему он обвиняет эмпириокритицизм в идеализме?
— Я считаю, чтобы правильно оценить эмпириокритицизм, нужно сначала изучить Канта и Гегеля. Без Гегеля нельзя подойти к философии марксизма. Но у него не разработана гносеология. Необходимо изучить мышление.
— Вы при помощи мышления хотите определить бытие? Это скверный идеализм! На черта нужны эти вещи в себе? — раздраженно отвечал парень, блестя глазами. — Мы знаем мир — данную общественно значимую реальность. Кое в чем мы уже совладали с этим миром.
— Вот чудак! Кто же отрицает необходимость овладеть миром и перестроить Землю! — Я спрыгнула вниз.
— Вы где учитесь?
— В географическом институте, еду в Мурманск на практику, а вы?
— На полгода послан на партийную работу в Мурманск, как на практику. Давайте по этому случаю чай пить... Вот станция!
Парень схватил чайник, пошел за кипятком.
Седой старик сидел, поглаживая длинную бороду. Он кивнул, усмехнулся и сказал:
— Шестьдесят пять лет прожил, людей маленько понимаю, а тут битый час парень с девкой гуторят, а я не понял, что к чему. Ни единого словечушка не уразумел!
Мой собеседник вошел с чайником.
— Проснулся, дед? — спросил он. — Как раз под кипяток, чаевать будем.
— Аль зовешь?
— Как не позвать?
— Ну пожди, заварю. Давайте, детки, чай пить! — Он кинул заварку и оглядел нас благодушно насмешливыми глазами. — Только два слова и понял: на практику едете. А в чем твоя, дочка, практика будет?
«Начинается! — подумала я. — В сущности, уже начинается этнографическая практика: как суметь объяснить этому старику свою задачу?..»
— Видите ли, дедушка, я изучаю, где да как люди живут, какие у них обычаи, житье—порядки...
— Так, а пошто ты это изучаешь?
— Чтобы люди знали и в книгах написали, где худо, где хорошо живут.
— Хорошо там, где нас нет, это уж известно, — сказал старик, балагуря и потешаясь.
— А вдруг мы там и окажемся? — улыбнулась я. — Эта поговорка потому, что не известно толком, где хорошо, а мы возьмем да и узнаем!.. А коли все плохо — станем думать, как сделать, чтобы хорошо было.
— Ну ладно! — согласился старик, отрезая ломти семги. — Угощайтесь-ка семушкой, детушки!
— А вы пирожки мои кушайте, пожалуйста,— сказала я.
— Пирожки, чать, не твои, а матушкины, не ты стряпала, — шутил старик. — А семушка — моеловная.
— Вы рыбак? Помор?
— Поморянин.
— Откуда?
— С Колы. Про Колу слыхивали?
— Как же, около Мурманска поселок, — сказал парень.
— Не Кола коло Мурманска, а Мурманск коло Колы ставлен, — строго сказал старик. — Кола из веков стоит, еще ковда, может, и Москвы не было.
— Будто? А ты как, отец, знаешь?
— Помним. От Господина Великого Новгорода сюда люди набегали. Ковды про Москву еще слуху не было. С норвежанами здесь торги велись.
— И у вас это помнят? — заинтересовалась я.
— От дедов-прадедов знаем. В церкви у нас и книга была, счисления лет, где писано, ковда Кола стала и ковда церковь ставлена и грамоты жалованы, от царя Ивана Васильевича... Слыхали про такого царя? Грозным прозывается...
— Ну-ну-ну! Где же эта грамота, дедушка? И сейчас в церкви?
— Англичана увезли; книги и грамоты. Англичана у нас были. Не в досюльные годы-те, нет — теперь приходили. Церкву все рисовали да на карточку снимали, а книги, бают, увезли. Верно-то не скажу тебе, дочка. Да ты гости к нам в Колу, там те все обскажут.
— А песни у вас старинные есть?
— Песням как не быть, где люди, там и песни живут.
— Я приеду обязательно! Как вас зовут, дедушка?
— Морей Иванович, а прозвище Шаньгин. Песни лучше всех моя старуха знает. Она как заведет были-небывальщины — не переслушать! С Зимнего берега она, с Золот-ницы; там — место певчее, поют постатейно и старину хранят. Я как на Новую Землю ходил, все с золотничанам, с жениной родней зимовал. У них старик был — ну, старик! Его с собой для утехи зимовать брали. Зверовать он стар, не неволят, а долю дают: старины сказывай, песни выпевай. Без этого на зимовке нельзя. Заскучат какой парень, тут цинга и привалится. Как она заманиват, знаете? Девушкой прикинется, в губы целовать зачнет — лежи не вставай! А рот в крови. Сон нападает. Поддался парень — и сгинул. Тут надо: распотешил бы кто! Про то и держат сказателей!
— Вот так способ лечения цинги! — усмехнулся парень, наливая всем по новой кружке чая.
— Ты, сынок, не зимовал, так не перечь! Я те не перечил, когда вы невесть што баяли про вешши каки-то! А тут толк понять всякий может: человек без песни, што птица без крыльев... или уха без соли, — усмехнулся старик. — Где люди, там и песни. Гости к нам в Колу, увидишь.
Он сошел на станции Кола, а я доехала до Мурманска. Мурманск в те времена был двухэтажный бревенчатый город с немощеными улицами. Он кипел, как живорыбный садок, заезжими людьми. «Облстрой», «Облисполком», «Облжелдор» — пестрели названия. А улицы были без названий. Я разыскала отдел культуры, записалась и решила, что до приезда остальных успею съездить в Колу.
В Колу!
Я сошла с железнодорожного пути, будто переступила в другое время, в досюльные, стародавние годы.
Застыли на берегу светлого залива большие бревенчатые хоромы из кондового леса. Смотрят узорными наличниками. У иных — окна в два ряда, один над другим, у других — в один ряд, высоко над землей. Распахнуты узорные ставни. Сбоку крыльцо, широкий бревенчатый въезд. Двор — под одну крышу с жильем. Торчат над крышами деревянные конские или птичьи головы.
Не тесня друг друга, просторно стоят усадьбы. Вокруг — ряды кольев; шипит ветер, покачивая на них сети.