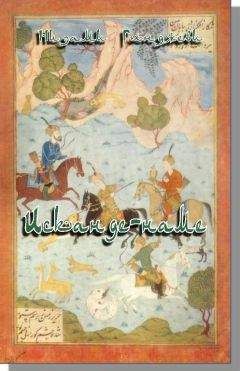За чашей чашу пьет в беспамятстве она.
Рисунок видела — и сердце в ней слабело,
А прятали его — искала оробело.
И стражи поняли, признав свою вину:
Ширин прекрасная окажется в плену.
И в клочья рвут они утонченный рисунок:
Бледнит китайский он законченный рисунок.
И говорят они, поспешно клочья скрыв:
«Поверь, его унес какой-то здешний див.
Тут властвует пери! С лужайки — быстрым бегом,
Вставайте! Новый луг отыщем нашим негам».
Сия кадильница в них бросила огонь,
И окурились все, как бы от злых погонь,
И, дымом от огня затмив звезду несчастий,
Конец погнали в степь, спасаясь от напастей,
Шапур во второй раз показывает Ширин изображение Хосрова
Лишь только красный конь копытом на горе
Взрыл огненную пыль, пророча о заре,
И в каждой щели он отрыл багрянец клада,
В тот час, когда гора парче пурпурной рада, —
Шапур свой начал день; он снова под горой
Был прежде, чем туда примчался райский рой.
Еще заранее, достав бумагу, снова
Он начертал на ней красивый лик Хосрова.
И, услаждая дух, в тени большой горы
Цепь роз опять сплелась для песен и игры.
Посрамлена луна, лишь спало покрывало —
Египетская ткань, что их полускрывала.
Как будто нехотя вошли в игру. Росло
Веселье медленно, — ив пляске расцвело.
Но только увлеклись они живой игрою, —
Над ними начал рок шутить своей игрою.
Едва Ширин свой взор приподняла опять, —
Дано ей было вновь Хосрова созерцать.
Глядит: ее души затрепетала птица,
Язык утратил речь. Иль этот лик ей снится?
Для опьяненного немного нужно сна.
Дал глине горсть воды — насыщена она.
Зовет она подруг: «Что там? Что значит это?
Игра моей мечты? Игра теней и света?
Картину дайте мне». Рисунок скрыли вмиг.
Но солнца не укрыть! Кто сей забудет лик?
И девы молвили: «Здесь духи смяли травы.
Поверь, им не чужды подобные забавы».
И утварь подняли, стремясь от мнимых гроз,
И луг испуганно очистили от роз.
Шапур в третий раз показывает Ширин изображение Хосрова
Вот Анка черная, исполненная гнева,
Зерно лучистое в свое внедрила чрево,
Вот гурии в степи, что Анджарак зовут,
Вновь обретя покой, вино тго чашам льют.
В хмелю, меж трав степных, заснули девы наши,
У ножек — базилик, в руках — пустые чаши.
День поднял голову из тканей мглы. Конец
Луне пришел. Весь мир златой надел венец.
И венценосные на троне бирюзовом
Вино преподнесли его испить готовым,
И мчатся в монастырь — он звался Перисуз, —
В день путь свой совершив, ни в чем не зная уз.
И там, где небеса как цвет глазури синий,
Бродили, протянув узор волнистых линий,
Как души мудрецов — зеленые ковры,
А воздух — ласковость младенческой поры.
Прохладный ветерок приятней ветров рая,
Лужайка в лютиках от края и до края.
Каменья словно храм; обвили их вьюнка.
Причесывая луг, струятся ветерки.
И говор горлинок и рокот соловьиный
Меж пламенных цветов сплелись в напев единый.
Пернатых волен лёт, не страшно им людей,
Порхают радостно меж трепетных ветвей.
Две пташки здесь и там, прижавшись друг ко другу,
Дают пример цветам, дают отраду лугу.
На луг пришел Шапур, и для услады глаз
Хосрова светлый лик он создал в третий раз.
Узрев безбурный луг под куполом лазури,
Здесь гурия вино решила пить меж гурий.
И вновь увидели красавицы глаза
То, чем смирилась бы души ее гроза.
Она поражена подобной ворожбою,
Уж дев играющих не видит пред собою.
Сосредоточен взор, встает она, идет,
Изображение в объятия берет.
Ведь в нем отражено ее души мечтанье,
И вот оно в руках! И счастье и страданье!
Она в беспамятстве, она стоит едва,
Шепча недолжные — забудем их! — слова.
Да! Коль все меры взять и слить все меры эти,
И дивов, как людей, в свои поймаем сети.
Лишь те, чей лик из роз и что подобны дню,
Столепестковую увидели родню,
Как стало ясно им, что облик сей красивый —
Не зло, что не грешны тут сумрачные дивы.
В работу мастера вгляделись, — не скрывать
Хотят ее теперь — смотреть и восхвалять.
Кричат красавицы: «Пусть все придет в движенье, —
Клянемся разузнать, чье здесь изображенье!»
Увидела Ширин, что их правдива речь
И что хотят они печаль ее пресечь.
«Ах, окажите мне, — она взывает, — помощь!
Ведь от друзей друзьям всегда бывает помощь.
Чтоб дело подогнать, порою нужен друг,
Порою нужен он, чтоб дел сомкнулся круг.
Лишь с другом не темна житейская дорога.
Нет ни подобия, ни друга лишь у бога».
Промолвила Ширин с великою тоской:
«Навек утрачены терпенье и покой.
Подруги! Этот лик мы от людей не скроем.
Так выпьем за него! Веселие утроим».
И снова на лугу — веселие одно.
Пир начинается, вино принесено.
И за газелями поются вновь газели,
И голос кравчего приятней пьяных зелий.
Напиток горький пьет сладчайшая Ширин.
О горечь сладкая! Властнее нету вин.
И с каждой чашею в томлении великом
Ширин целует прах, склонясь пред милым ликом.
Когда же страсть и хмель ей крепче сжали грудь, —
Терпенье тронулось нетерпеливо в путь.
Ширин, одну Луну поставя при дороге, —
«Кто ни прошел бы здесь, — приказ дает ей строгий, —
Узнай, что делает он в этой стороне,
Об этом облике что может молвить мне?»
Одних спросили вслух, других спросили тайно.
Что ж? Все таинственно и все необычайно!
И тело Сладостной ослабло в злой тоске,
И все от истины блуждали вдалеке.
И, как змея, Ширин в тоске сгибалась грозной,
Из раковины глаз теряя жемчуг слезный.
Появление Шапура в одежде мага-жреца
Все души Птица чар измучила вконец.
Но вот является. Ее обличье — жрец.
И лишь прошел Шапур три иль четыре шага,
Почудилось Ширин: встречала где-то мага.
Шапур приятен ей: хоть кисть он позабыл,-
Рисунок черт своих ей в сердце он вложил.
«Позвать его сюда, — слова ее приказа. —
Чтоб здесь он все узнал из нашего рассказа.
Быть может, знает он, кто нарисован тут,
И где его страна, и как его зовут».
И вот прислужницы путь истоптали: слово
Шапуру вымолвят — к Ширин несутся снова.
Шапур, потупя взор, неслышно прошептал:
«Я далеко зашел, но все ж далек привал».
Но уж в своих сетях они видит лапки дичи.
В их беге видит он, что ждать ему добычи.
Он молвил: «Этот перл не надлежит сверлить,
А если и сверлить, то надо спесь забыть.
И вот бегут к Ширин служительницы снова, —
То, что сказал им жрец, сказать ей слово в слово.
Лишь луноликая услышала их — вмиг
В ней закипела кровь: в душе огонь возник.
Сверкая серебром, жреца покорна власти.
До гор вздымая звон ножных своих запястий,
Ширин летит к нему, волнуясь и спеша,
Как тополь, стройная, плавна и хороша.
Хрусталь прекрасных рук опишешь ли каламом!
И схожи локоны с буддийским черным храмом.
А косы, обратя в закрученный аркан,
Как бросила она? Обвила ими стан.
И, видя стан ее, и лик ее и плечи, —
Художник рук своих лишается и речи.
Она — игрушка, да! Но странно… не понять:
Играет тем она, кто ею мнил играть.
Индус! Ты сердце взял рукою ловкой, дерзкий!
Она, как тюрк, за ним! Не быть с обновкой, дерзкий!
О тюркская напасть! Покорствуя красе,
Индусами пред ней склонились тюрки все.
Откинула покров. Жемчугоносным ухом,
Блестя как ракушкой, премудрость ловит слухом.
В ее речах есть соль, в очах лукавство есть
Так с магом говорит, как понуждает честь.
«Хоть на кратчайший срок ты будь к моим услугам,