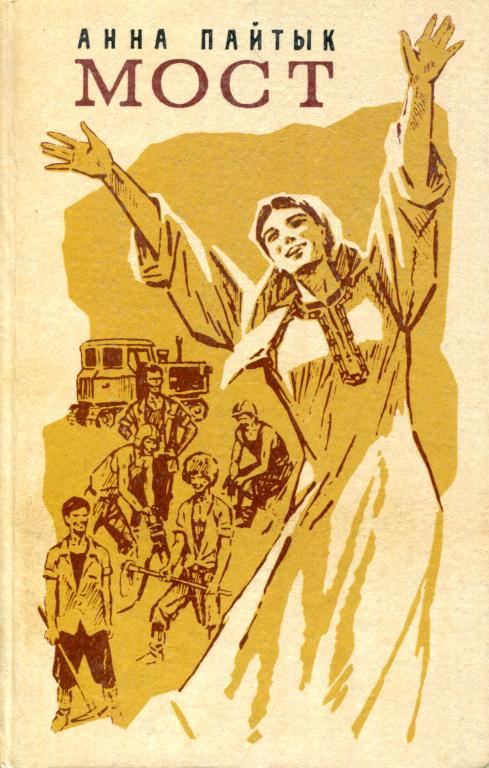идет кровь. Когда мама сказала: „Вот получишь солнечный удар и опять попадешь в больницу, как тогда со сломанной ногой. Будешь лежать в постели. И знай, мне с моим здоровьем нелегко будет ходить к тебе“, я немного испугался. Но все равно продолжал стоять на своем. Мама на этот раз не стала долго препираться со мной, сказала:
— Знаешь что, сын дорогой. Если хочешь оставаться здесь, веди себя как следует. А не желаешь слушаться, отправляйся домой, к Тазегуль. Вот приедет вечером отец, я скажу ему, чтобы забрал тебя с собой.
Мне словно пощечину влепили. Для меня поехать к Тазегуль было самым большим наказанием…
Из-за маминой болезни ежегодно летом наша семья делится на две части. Папа с Кервеном и Тазегуль остаются дома. А дедушка и мама переезжают на бахчу. Дедушка и раньше на лето переселялся в шалаш, чтобы ухаживать за огородом. Да и для верблюдицы там пастбище лучше, чем в ауле. Но последнее время вместе с дедушкой на бахчу перебиралась и мама. Они жили там в шалаше до самой осени. Конечно, это было неудобно. Но другого выхода не было. Мама болела и считала самым лучшим лекарством от своей болезни зеленые, недозрелые дыни и верблюжий чал — напиток из верблюжьего молока. Пока Кервен был дома, я тоже оставался в ауле и не жалел. Но когда его забрали в армию, мне пришлось остаться вдвоем с Тазегуль. Папа как уедет с утра, так возвращается домой поздно ночью, а то и вовсе в поле останется. Он бригадир овощеводческой бригады. А это очень нелегкая работа. Все лето то одни овощи поспевают, то другие, а то и все вместе. Вот и приходится работать с утра до вечера. Он приходит домой усталый. Надо ему чай подать, обед приготовить. И в доме дел немало — и стирать, и кур накормить. Когда мама с дедушкой переезжали на бахчу, вся домашняя работа ложилась на нас с Тазегуль. Но меня совсем не пугала домашняя работа. Меня больше пугала сама Тазегуль.
Не дай бог оставаться с ней. Считай, что ты попал в тюрьму. Играть с мальчишками запрещено. Потому что деремся. Выходить со двора, лазать по деревьям нельзя. Если вдруг упаду и сломаю ногу, видите ли, отвечать должна Тазегуль… Все запрещено, запрещено, запрещено… Телевизор посмотреть и то не всегда можно, а только тогда, когда Тазегуль посчитает передачу подходящей. А если нет, то ты хоть обрыдайся, все равно не включит… Наконец однажды я не выдержал и дернул ее за косу. Она вначале заплакала, а потом отлупила меня. Я бы, конечно, мог дать ей сдачи. Но не драться же с девчонкой, даже такой вредной, как Тазегуль. Все-таки я мужчина. Вот поэтому мне теперь ни за что не хотелось возвращаться к Тазегуль. И зачем я только стал спорить с мамой! Разве трудно было надеть тюбетейку, если мама велит? Здесь, на бахче, скучновато, зато свобода. Делай весь день что хочешь — не то что дома с Тазегуль. Я готов был закричать: „Мамочка, я не то что тюбетейку — папаху согласен носить, только не отправляй меня к Тазегуль!“ Но слова замирали на моих губах. Я смотрел на мамино лицо и молчал. Такой уж у меня характер. Дедушка понял, что со мной творится, ему стало жаль меня. Он поднялся и потянул меня за руку.
— Ну да ладно. Если тебе не хочется надевать тюбетейку, я смастерю тебе шляпу из бумаги. Пойдем с тобой походим по бахче, дыни проведаем. Мне кажется, что я чую запах желтой дыни…
Дедушка, прихрамывая, идет к бахче. Я в бумажной шляпе следую за ним. Все-таки дедушку правильно называют "уста" — "мастер". Даже шляпу из газетного листа он смастерил замечательную. Трехугольная, высокая и широкополая, она прикрывает голову от солнца, и солнечные лучи не режут глаз. А, главное, все довольны. И сам дедушка, и мама, и, конечно, я.
Вот бахча.
— Ну, теперь смотри как следует! — говорит дедушка. — Дыни начали зреть. Да и как им не зреть, если солнце палит и влаги достаточно. Лежат, набираются соков.
Я это знаю. В жару не очень приятно, но зато на огороде все начинает быстро созревать.
Мы остановились на краю первой же борозды. Эту борозду дедушка прозвал "прополотая черепахами". Оба края борозды густо засажены огурцами. На зеленых плетнях столько завязей, что пальцем некуда ткнуть. Огурчики лежат, касаясь друг друга. Еще вчера из села приезжали два парня и увезли с собой целый мешок огурцов. Это для всей папиной бригады. В обед, когда жарко в поле, очень даже приятно поесть свежих огурцов. И сами мы их рвали — и вчера, и позавчера, и поза-позавчера. Сорвешь, а назавтра приходишь — огурцов снова полным-полно. И такие красивые, словно бусы нанизаны на плетнях. Есть среди них и очень большие — больше ладони, и маленькие, как ручка от серпа. Но и большие и маленькие огурцы очень зеленые и свежие. Когда их ешь, они весело хрустят и во рту становится прохладно. И сегодня я глянул и закричал:
— Ого-го, сколько огурцов!
Дедушка поправил меня:
— Сынок, надо говорить: "Не сглазить бы!.."
Я это не впервые слышу от дедушки. И раньше много раз слышал. Не любит он, когда громко восхищаешься или удивляешься. И особенно не любит возглас "Ого!". "Что это еще за "ого"? Больше никогда так не говори, обязательно говори: "Не сглазить бы". Но сколько бы он ни предупреждал, я все равно очень быстро забываю. Дедушке кажется, что это выражение — "не сглазить бы" — оберегает огород от дурного глаза. А еще он от сглазу поставил на огороде чучело. Страшное такое! Стоит посреди бахчи, среди дынь. Я видел, как дедушка его делал. Воткнул в землю длинную палку, а наверх намотал тряпок и соорудил голову. А другую палку прикрепил поперек первой и надел на нее старый пиджак. На голову нацепил драную облезлую шапку. Если смотреть издалека, очень похоже на человека. Ночью глянешь — и даже жутко становится Я думал, что дедушка поставил его, чтобы отпугивать волков и шакалов.
— Теперь они и близко к огороду не подойдут! — обрадовался я.
Хоть я и не трус, а все-таки становится не по себе, когда представишь, что где-то совсем рядом рыскают волки или шакалы. Особенно, если ты спишь ночью один под пологом. Но я напрасно обрадовался. Когда я сказал про волков и шакалов, дедушка помолчал, потом сказал: