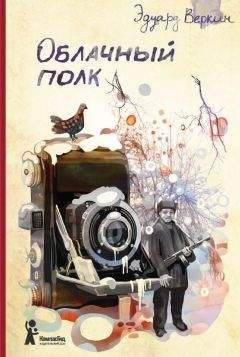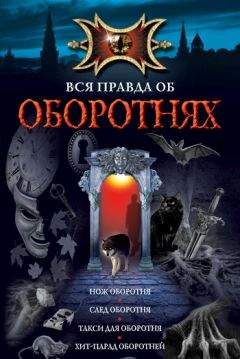– Чего, фашист, молчишь?
– Паша, – ответил гад.
У нас в классе был Паша, у него верхние зубы вперед выступали. У этого с зубами нормально, нормальный вроде и имя человеческое.
– Паша… – Саныч задумался. – Знавал я одного Пашу на фанерной фабрике, редкостной тварью был, на всех барабанил напропалую. Ничего, коллектив его перевоспитал. Паша… Давай-ка, Паша, скидывай фуфайку. И не дергайся.
Саныч разрезал веревку, стягивающую пашины руки.
– Повезло тебе, фашист Паша, целых два раза. Первый раз, что осень сейчас, второй – что даже Митька тебя шлепнуть не хочет. А между прочим, мы вышли специально для этого – чтобы Митька снял своего первого фашиста. А теперь придется ему еще неизвестно сколько мучиться…
Я тяжко вздохнул.
– Так что ты, Паша, уж его не расстраивай окончательно, – посоветовал Саныч. – Давай, раздевайся.
Предатель стал стаскивать фуфайку. Это у него не очень получалось, фуфайка намокла и слезала плохо, да он и не старался особо, а может руки у него плохо действовали, затекли, запястья распухли. Но снял, скатал, положил на кочку. Под фуфайкой оказался свитер, его Паша стащил и тоже свернул очень аккуратно. Майка. Рваная, с дырьями, синюшные тощие руки, он обнял ими плечи, смотрел пусто и безразлично. Трясся, уже не дрожал.
Саныч плюнул под ноги.
– Хилый фашистик попался, – сказал он. – Расклеился весь, стружка полезла, тьфу, противно. Пошлешь его за вершей, так сдохнет. Назло ведь сдохнет, по харе его вижу…
Саныч поглядел на меня.
– Я могу слазить, – сказал я. – Там ведь неглубоко, кажется.
Это справедливо. Саныч верши ставил, в воде мок, а я на берегу сидел, ждал, теперь наоборот. Я стал раздеваться. Ну, буду чуть мокрее, чем раньше, тут до отряда уже не далеко, не растаю.
– Погоди, – помотал головой Саныч.
– Что?
– У тебя ведь воспаление легких было недавно?
– Так это ведь когда…
На самом деле давно, в прошлом году, или давнее, или… Откуда он знает, интересно, я вроде никому не рассказывал… А может и рассказывал.
– Лучше я сам слажу, – сказал Саныч. – Я в октябре купался однажды на спор – и ничего. А дед мой зимой в прорубь нырял…
Сейчас еще про подковы скажет.
– И гвозди лбом забивал, – вместо этого сказал Саныч. – А я так не умею. Ладно…
Саныч разоблачился по-военному быстро, до черных трусов. Велел мне приглядывать за Пашей, пистолета с него не сводить, если что – стрелять насмерть, чтобы потом не возёхаться. Хотя можно было и не предупреждать – этот Паша расквасился до такого состояния, что даже сидел с трудом, все на бок завалиться стремился.
Саныч ухнул, полез в воду, размахивая руками и крякая. Значит, у него в отношение этого Паши другие планы, кто его поймет вообще…
Я привалился к тоненькой рябине, качался на стволе, срывал горстями, разбрасывал по сторонам, рябина такая уж ягода, ее всегда хочется разбрасывать, в руках не держится. Паша трогал голову, Саныч шагал вдоль берега, матерился, скрежетал зубами, ойкал от холода, прощупывал дно возле берега и под корягами. Почти сразу он достал первую вершу. Пустую, Саныч выкинул ее на берег, сказал, что со второй повезет больше.
Но со второй тоже не повезло, она расплелась и рыба, если и попалась, то сейчас благополучно улизнула. Третья верша оказалась заполнена грязью и спящими пиявками, четвертая шла туго. Саныч стучал зубами и ругался все страшнее, изобретая затейливые проклятья на голову фашистов, полицаев, предателей и прочей сволочи, которая из нор вдруг понавылазила, как мухоморы в июне, аж в глазах рябит, но ничего, мы ее законопатим скоро, да так, что только брызнет в разные стороны…
Саныч старался, мял тяжелую осеннюю грязь, волок вершу на берег, и я уже видел, что с этой повезло, черная вода кипела живьем, улов был. Я зачем-то попробовал рябину, кислая, не успела сахару набраться, подождать до ноября, до первых заморозков, тогда и есть можно.
Саныч зарычал, напружился, выкинул вершу на берег.
– Вот! – Саныч присвистнул. – Третий раз забросил дед невод…
Верша была заполнена рыбой. Мальками, длиной, может, в половину пальца, цвета хорошо начищенной латуни.
Саныч плюхнулся рядом с вершей. Синий, измазанный грязью, по коже мурашки, выглядел зло и опасно, по-боксерски, у нас в доме пионеров боксеры тренировались, так вот они все такими были, вислоплечие, сбитые, крепкие, как медведи, только Саныч все равно с любым из них бы справился.
– Раньше холодной водой дураков лечили, – сообщил Саныч, стал, не снимая, выжимать трусы, подтягивал их повыше, скручивал, почти до подбородка дотянул, у меня такие же. – Многие вылечивались. Может, фашистов тоже так, а?
Фашист Паша промолчал.
– Потом попробуем, – пообещал Саныч. – Со льдом уже. Вообще, я гляжу, с фашистом лучше на рыбалку не ходить – ничего не наловишь – рыба вонь даже из-под воды чует, в глубину прячется. С фашистом хорошо раков ловить, они любят, чтоб потухлее. А куда эту шантрапень девать не знаю, ни ухи из нее, ни жарехи, стыдно домой возвращаться, Ковалец задразнит, собака злая… Что с такой рыбой делать…
– Засушить, может? – предложил я. – А потом в муку перемолоть…
Я что-то про рыбную муку слышал, вот и предложил.
– Не знаю, – Саныч поморщился. – Чего тут сушить, сплошной малек, шибздицы, чешуи больше, чем мяса… Зря только мерзли. Из-за тебя все, сволочь…
Он пихнул Пашу ногой. Тот сидел на земле, уже не дрожал, только пар изо рта выпускал. Странно, ни у меня, ни у Саныча пар не шел, только у этого.
– Все настроение испортилось, – Саныч пнул уже вершу. – Хоть домой не возвращайся, честное слово…
Из верши вялой колышущейся массой выдавливались рыбешки, обильная золотая каша. Наверное, караси, молодь или мелочь, не знаю, как правильно называется. Ведра два, или больше, ярко золотая, осенью таких новых красок и не встретишь, листва хоть и желтая, а все равно тусклая и неживая, а под водой, оказывается, есть.
Гад начал вдруг собирать рыбу, золото проскакивало между пальцами и расспрыгивалось по жухлой траве, золотые рыбки и красная крупная рябина, прелая коричневая трава.
Глава 3
– Фанера, ты чего тут сидишь, а? – сварливо осведомился Ковалец.
– Не видишь разве? – Саныч зевнул. – Дурня дожидаемся…
– А, ясно. А там тебя корреспондент, между прочим, ищет. Фотографировать хочет.
Ковалец кивнул в сторону штаба.
– Пусть вон Митьку сфотографирует, – Саныч ткнул меня в бок.
– Зачем ? – не понял Ковалец. – Герой-то у нас ты. Вот когда он героем станет, то и его сфотографируют.
Ковалец подмигнул мне.
– А какая разница? – пожал плечами Саныч. – Все равно никто ведь не знает, как я выгляжу.
– Как это какая разница?! Это же документ эпохи! В штабе не дураки сидят, сказано сняться так и иди, снимайся!
– А давай ты за меня сфотографируешься, – предложил Саныч. – А что? Ты же, наверное, тоже готовился. Сапоги, гляжу, почистил, прическу причесал. Вот и давай, разрешаю. Я не обижусь, честное слово!
Ковалец начал злиться. Он быстро злиться начинает, раньше работал плотогоном, любит поорать, умеет, а матерится так, что неосторожные комары замертво падают еще на подлете. Только на Саныча ори не ори, матерись не матерись, его не пробить, он как трактор, как танк даже, знай, зевает.
– Разве это важно, кто на карточке будет? Главное чтобы люди смотрели и говорили – вот он, герой! Мужественный человек…
– Опять?! – Ковалец насупился, распустил фигуру, навис плечами.
А Саныч зевнул еще громче, нос почесал.
– Ты что, Фанера, в банде?! – продолжал Ковалец. – Распустился… Это партизанский отряд, а не махновская ватага! Ты боец Красной Армии!
Теперь уже я ткнул Саныча в бок. Чтобы не зевал так громко, не надо зря злить Ковальца, Ковалец, наверное, безобидный в общем-то, однако горячечный слишком, заносчивый, заносит его иногда. Не держит себя в руках, сердится очень. Вот рассердится сейчас, драться кинется, Саныча опять на губу посадят.
– У тебя что-то с усами, между прочим, – сказал Саныч. – Не растут что-то совсем, порыжели…
Ковалец потрогал усы.
Усики, надо признаться, на самом деле росли плохо.
– Вы зачем этого полицая притащили, а?! – спросил Ковалец – Зачем он нужен нам, шлепнули бы под кустом… Слышь, Фанера, а может он твой брат, а? Похож…
Саныч улыбнулся, ответил:
– Так мы и хотели шлепнуть, а полицай взмолился – говорит, не убивайте меня, у меня друг в партизанах, Ковалец его фамилия, на одной улице росли, одну титьку сосали. Ну, мы его и проводили, уважили человека. А ты зачем так сапоги начистил? «Рама» полетит, свысока блеск засечет, демаскируешь нас. Ты как в следующий раз будешь чистить, соплей поменьше клади, в меру.
Ковалец не нашел, чего сказать, причесался.
Причесывался Ковалец тоже не просто. Расческа у него алюминиевая, с длинными острыми зубцами, блестящая, сбоку пилочка для ногтей, а на конце что-то вроде ложечки, приспособление неизвестного назначения – Саныч полагал, что ковырялка для ушей, сам Ковалец утверждал, что в ложке этой растапливают воск, который втирают в прическу для придания ей блеска и устойчивости. Эту выдающуюся расческу Ковалец снял с одного ефрейтора, а потом долго кипятил на предмет избавления от немецкого духа, и спиртом протирал трижды, а после всех полагающихся процедур вставил в рукоять от бритвы, и когда надо было причесаться публично, красивым движением выщелкивал ее, и, тряхнув чубом, изысканно совершал туалет.