— Когда это случилось, мне было десять. А до шести я не разговаривал ни с кем, кроме
матери. — У меня помимо воли отвисает челюсть. — А чему, собственно, ты удивляешься?
Сама сотню раз называла меня аутистом? — пожимает он плечами. — Не так весело, когда все
взаправду, верно?
— Это же… страшный диагноз. Но ты ведешь себя как… обычный подонок.
— Мой случай определенно не самый тяжелый, и, к вопросу о подонке, за свое отношение
к людям я не чувствую ни малейшей вины, а это уже не очень нормально. Тебе стоит
порадоваться, можешь быть спокойна за крошек семейства Прескотт, пока вместо того, чтобы
поедать домашние деликатесы, они не считают зубочистки. Но если хочешь, чтобы у детей все
сложилось хорошо, начни с их отца, ему стоит вытереть сопли.
— Ты за это не простил своего отца? — пытаюсь я проявить проницательность, но выходит
не очень:
— Нечего прощать. Мы просто не были нужны друг другу. Так случается, — совершенно
спокойно говорит Картер, словно о посторонних людях рассказывает.
— Нет, так не случается. Он был тебе нужен хотя бы когда умерла мать.
— Возможно. Но именно в тот миг двое сыновей только и делали, что мешали ему
предаваться собственному горю. О, Джоанна, он так страдал, что знакомые толпами ходили
утешать. Выпроваживали нас подальше и приводили его в чувства. Как только ни пытались:
брошюры, общества утраты, гипнозы, медикаменты — все перепробовали. Да, конечно, отец
потом раскаивался, на языке мозоль натер, извиняясь за свое пренебрежительное отношение, но
к чему мне были его слова? Я просто знал, что на этого человека нельзя положиться. — И
звучит так, будто у Картера нигде даже не екает при этих словах. — Ну, Конелл, моя семейная
история тебе помогла?
— Нет, — качаю я головой. — Но ты можешь.
Картер вопросительно выгибает бровь.
— Ты можешь заставить меня забыть.
Я сокращаю между нами расстояние, медленно и опасливо тянусь к его губам, но он
отстраняется.
— Адресом ошиблась, — язвительно сообщает Картер. — Меня, помнится, тебе было
недостаточно, а Ашера — в самый раз. Хватит устраивать американские горки. Либо ты
перевозишь вещи, въезжаешь и остаешься здесь, либо ищешь утешение в другом месте. Все
поняла?
— С твоей стороны это бесчеловечно! — обиженно выпаливаю я.
— Уж с человечностью точно мимо.
Вот так, ничуть не любезно, мне указывают на выход.
Мне всегда казалось, что Керри рассказывала мне все, она была не из тех, кто любит
скрываться. Но когда я пришла на ее похороны, выяснила, что не знаю даже половины ее
знакомых. Я старательно вглядывалась в лица, пытаясь их вспомнить, но тщетно.
Присутствующие, однако, отвечали мне тем же. Естественно, рядом с Лайонелом стоит
какая-то неизвестно откуда взявшаяся женщина… Наверное, спасло ситуацию лишь то, как
тепло меня встретили родители Керри. Кстати, Шон с Селией присутствовали на церемонии. Я
не знаю, откуда сестра Ашера узнала о месте и времени похорон, но приехала.
Все остальное, что я помню — даже не умиротворение на лице Керри и не изящную косу, в
которую заплели ее волосы, а беспрестанный и надрывный плач Лайонела. Думала, что и сама
буду реветь, но, видимо, меня так бесила его неспособность взять себя в руки, что я не
проронила ни слезинки. Послушавшись Шона, я не стала брать детей. Это было самым мудрым
поступком за всю мою жизнь. Я бы не хотела видеть своего отца в таком состоянии. Чем позже
малыши поймут, что их папа никакой не герой — тем лучше. Со мной это случилось в двадцать
шесть, и я ни капельки не жалею о безоблачном детстве.
После того, как все речи были сказаны, а приглашенные разъехались, я отвезла Лайонела в
их с Керри дом и заставила собирать вещи. Я не отпущу детей до тех пор, пока не буду уверена,
что горюющий папочка не оставит шрамов в их маленьких сердечках! А еще мы заехали в
аптеку за успокоительным для Лайонела и снотворным для меня. Так было правильно.
А теперь я устраиваю Марион в ясли, записываю Джулиана в Сиднейскую летнюю школу,
а для Кики нахожу няню. Лайонел же мотается между Сиднеем и Ньюкаслом. Устает, но
притворяется, что все в норме. А я упорно игнорирую его синяки под глазами. Мы только за
закрытыми дверями становимся собой. Я, например, достаю из-под подушки нашу с Керри
фотографию и долго смотрю на нее. Это лучшая, самая бесподобная работа Пани. Ну или наша
с Керри, как знать. Может быть идеальной ее сделали наши улыбки?
Время медленно-медленно ползет вперед. И то, что настает пора экзаменов — настоящее
облегчение. Работать совершенно не хочется. Я делаю ровно достаточно, и у Картера есть все
причины обвинять меня снова. Но если он хоть что-нибудь скажет, я его пошлю. Вместе с
Бабочками, вместе со всем миром. Мне даже хочется это сделать, чтобы наказать себя за
неправильную расстановку приоритетов. Безумно хочется закончить с экзаменами побыстрее и
уйти в отпуск. Но, совершенно внезапно, когда на одном из них я вижу перед собой
васильковые глазки Ребекки Йол, и эти прелестные розовые губки, которые несут полную
чушь, во рту вдруг становится горько от желчи, а в душе поднимается прежде дремавшая
кровожадность.
— Прости, что? — раздраженно переспрашиваю я в ответ на ее последнее утверждение. Она
теряет дар речи, но мне и ни к чему этот повтор. Смерть Керри доказала мне лишь одно: если
ты что-то давно мечтал сделать, нужно торопиться, а я мечтаю устроить экзекуцию Ребекке
Йол, чем не отличный повод? — Какой бред! — С силой ударяю стопкой бумаги по столу. — А
ничего, что это противоречит самой архитектуре компьютера…
Вскакиваю со стула, срываю с себя жакет, иду к доске, хватаю маркер и пускаюсь в
настолько масштабные и глубокие объяснения, что студенты смотрят на меня как на
сумасшедшую. А я не могу остановиться: пишу, пишу, пишу…
— Вы что, серьезно ничего из этого не знаете? — возмущенно спрашиваю я. — Я сейчас
сюда ректора приглашу, и стопку документов на отчисление велю принести! — Маркер с
грохотом приземляется на место. — Ты хоть что-нибудь поняла? — рычу я на Йол.
— Да, — шепчет она.
— Что ты поняла?! — С силой ударяю ладонями по столешнице. Девчонка уже сидит на
самом краешке стула, еще миллиметр, и она рухнет на пол, но, видимо, ей нормально, главное
— от меня подальше. — Ты ничего не поняла! И никогда не поймешь! Убирайся, к черту!
Она рваными спешными движениями собирает свои листы и конспекты и, собравшись с
мужеством, все-таки почти шепотом спрашивает:
— Мне на пересдачу?
— Тебе удовлетворительно! — рявкаю я.
— Но я же…
— Ты не при чем! Просто видеть твои абсолютно пустые оленьи глазенки еще раз я просто
не в состоянии. — После этого я не выдерживаю и буквально падаю на стул, закрывая лицо
руками.
А Йол вскакивает и вылетает из аудитории, плевав на то, что сумка осталась здесь. Остальных я
принимаю в состоянии полного анабиоза. И ни одной пересдачи не назначаю. Я хочу, чтобы
меня просто оставили в покое.
Но возмездие — штука такая, что ждать себя не заставляет. На следующий день сижу себе
на кафедре, бумаги заполняю, как вдруг входит Картер.
— Что за шизофрения с Йол, которую весь университет обсуждает?
— Понятия не имею, о чем ты, — говорю я, продолжая вписывать цифры в графу.
— Доводишь студентов до того, что они часами рыдают в туалете?
— Я никого не довожу, просто она дура.
— Каддини сообщил, что ты расписала им на доске устройство регистровой памяти
компьютера. Удивительно, с чего это Йол его не знает?
— Мне тоже удивительно, — бормочу я и ставлю дату не на той строчке. Ох, лучше бы
Картер убрался. Будто не понимает, что это он со своей не застегивающейся ширинкой виноват.
— Рад, что хоть кто-то в этом университете умный. В следующий раз решишь
потерроризировать кого-нибудь своим интеллектом, начни с меня. Посмотрим, может я тоже
поплачу. От умиления, например. Но к вопросу о том, кто чего не знает и не успевает. Как
поживают коды для Такаши?
— Прекрасно поживают.
— Давай сюда.
Достаю сумку, но флэшку найти не могу, бросаю ее на стол, чтобы лучше видеть
содержимое, но вдруг из кармашка выкатывается пузырек со снотворным. Я его таскаю с собой,
чтобы дети не вздумали отравиться.
— Отвратительная идея, — сообщает Картер, подхватывая мои таблетки. Он встряхивает
пузырек и обнаруживает, что осталось там совсем не много.




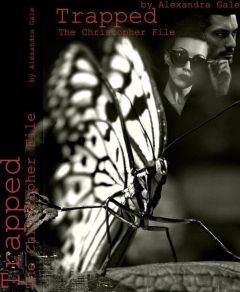
![Александра Гейл - Загнанная в ловушку. Дело Пентагона [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/34931/34931.jpg)