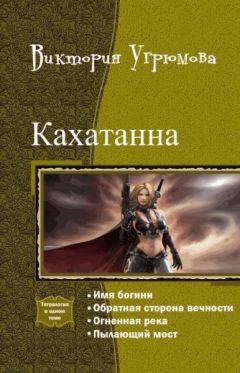Никаких известий.
Человек на ложе под роскошным балдахином перекатился на спину и закусил губу, вперив глаза в потолок. Он должен думать о другом — о государстве, о делах. В конце концов можно думать о новых наложницах или тех шести юных танцовщицах, которых привезли во дворец накануне вечером. Все они великолепны и способны даровать любому неземное блаженство.
Но Хайя Лобелголдой думал почему‑то о нелюбимой седой жене, которая второй месяц подряд горькими слезами плакала в дальних покоях Южного дворца.
Законная жена повелителя и мать Хентей‑хана страстно желала, чтобы во главе войск, которые тагары отправляли в распоряжение Зу‑Л‑Карнайна, встал кто‑нибудь другой, только не ее сын. Глупая женщина! Что может быть лучше славы, которой покроет себя воин на поле битвы? Хентею еще править и править Джераланом — пусть же укрепляет свою власть. Кто знает, может, именно ему суждено избавить свой народ от Фаррского Льва?
В который раз Великий хан подумал о своем брате — безудержном, неистовом, свободолюбивом Богдо Дайне Дерхе, павшем в битве за Джералан.
Хентей‑хан был много больше похож на своего дядю, чем на мать или отца, и внешностью, и нравом. Лобелголдой не хотел знать, почему так вышло, и сына любил безудержно. А вот жену ненавидел.
Почему же он думает о ней, рыдающей второй месяц подряд в самых дальних покоях Южного дворца, что же рвет его душу дикая боль ревности и умирающей долгие годы, но так и не угасшей до конца любви?
«Брат мой! Брат мой, не потому, ли я не поддержал тебя в том сражении, не потому ли отвел войска?! Неужели все горе, весь ужас Джералана, гибель его лучших воинов лежат на совести одного‑единственного человека, не сумевшего простить?..»
Наконец Лобелголдой понял, что сегодня ему заснуть уже не удастся, поэтому он резко сел на своем необъятном ложе и протянул руку к шнуру с колокольчиками, чтобы вызвать рабов и приказать им подать вина и привести танцовщиц, привезенных из Сарагана, — потешить повелителя плясками и красотой. Однако он так и остался сидеть, протянув дрожащую руку к шнуру и не имея сил ни крикнуть, ни закрыть глаза, чтобы не видеть зрелище, которое предстало перед ним.
Посреди огромного, во весь пол, ковра перед Великим ханом стояло некое подобие человека — не то тень, не то призрак. Он был невысок и темноволос, но весь силуэт его слегка дрожал, перетекая внутри своей формы, словно не имея четко очерченных границ. К тому же ночной пришелец не отбрасывал тени, и более, того — сам был полупрозрачен.
Однако призрак слегка светился, что позволяло рассмотреть его в подробностях. Это был мужчина по виду явно тагарских кровей, одетый в измятые окровавленные доспехи. У него не было кисти левой руки — вместо нее хан видел отвратительную кровавую рану. Правый глаз и щека ночного гостя тоже представляли собой жуткое алое месиво, а грудь была пробита в нескольких местах. Но на шее мертвеца — а в том, что призрак был воином, павшим в битве, сомневаться не приходилось — висело золотое ожерелье; и шлем его был украшен золотым ястребом — шлем, известный всему Джералану, — тот, что был на хане Богдо Дайне Дерхе во время его последнего сражения и в котором приказал похоронить его император Зу‑Л‑Карнайн.
Лобелголдой почувствовал, что горло сжимает жестокая ледяная рука ужаса, но старался не подать виду — горд был правитель тагар и, несомненно, храбр.
— Здравствуй, брат, — прошелестела тень. — Узнал?
— Да, Дайн Дерхе. Узнал. И приветствую тебя от всего сердца.
— У меня мало времени, брат. Я пришел исполнить свой долг.
Хайя Лобелголдой вместо ответа склонил голову.
— Ты всегда придерживался мнения, что я напрасно положил людей там, в ущелье. Но я не умею жить стоя на коленях.
Узкие глаза Великого хана гневно блеснули, однако он не хотел спорить с призраком и подавил в себе желание запротестовать.
— Я не знаю, кто из нас прав, брат, — продолжала тень все тем же сухим, шелестящим голосом. — Даже теперь, пребывая в Заоблачных равнинах, я не знаю, кто из нас был прав. Возможно, что и ты, сберегший и сохранивший людей и страну.
Великий хан был сверх всякой меры удивлен словами Богдо Дайна Дерхе — при жизни он бы так, не сказал никогда.
— Но теперь я должен предупредить тебя, брат. И умолять, как может только один хан молить другого, — не дай погибнуть нашим детям и детям наших детей. Ибо. великое горе подступает к Джералану. Император Зу‑Л‑Карнайн влюбился в ведьму, которая поклялась уничтожить нашу страну. Если он на ней женится, Джералан погиб. Помни это.
— Что же я могу сделать? — тихо спросил Лобелголдой, которому эта оглушительная новость показалась не слишком правдоподобной; он сам не мог сказать почему.
— Она с маленьким отрядом будет пересекать Джералан в том самом месте, где я был убит. Их мало, Хайя, очень мало. Убей их…
Тень переместилась в сторону ложа, отчего правитель невольно подался назад.
— Я знаю, что ты мне не веришь, но я дам тебе знак. Твой сын жив, и он привезет тебе подтверждение моих слов. Не мешкай же тогда. У тебя немного времени.
Услышав, что Хентей‑хан жив, владыка Джералана почувствовал себя безмерно счастливым, и все остальные слова доносились до него как сквозь стену.
— Выполни то, о чем я говорю тебе. — Голос тени стал настойчивым и жестким. — Выполни, ибо только так ты сможешь искупить свою вину.
— Какую вину? — воскликнул хан.
— Сам знаешь, брат. Сам знаешь. А сын жив… наш сын…
Тень воина медленно истаяла в лунном свете, оставив горький осадок в душе правителя.
Хайя Лобелголдой некоторое время сидел на ложе, свесив ноги и бессильно уронив руки вдоль тела. Затем поднялся и пошел к дверям.
В ту ночь Великий хан в сопровождении одного только палача посетил Южный дворец.
А Зат‑Бодан, Бог Раздора, выскользнул из покоев хана и направился к своему повелителю, который ждал его у стен Дехкона — столицы Джералана. Тот был могуч и хорош собой, а голову его венчал шлем, сделанный из черепа дракона.
Утром по дворцу прокатилась страшная новость — была найдена мертвой в дальних покоях Южного дворца жена правителя Джералана — Алагат. Хан был не просто удручен смертью жены, но потрясен и оттого грозен и свиреп сверх всякой меры, что показалось удивительным его царедворцам: давно уже было известно, что хан охладел к Алагат сразу после рождения сына. Иногда шепотом даже называли причину этого охлаждения, но только при самых близких, самых проверенных друзьях… Впрочем кому какое дело? Возможно, Лобелголдой таким образом замаливал свою жестокую вину перед женой, любившей его до безумия. Или любившей до безумия, но не его? Но кому какое дело? Кому какое дело до того, на кого похож нынешний наследник, Хентей‑хан, и не был бы ему к лицу знаменитый шлем с золотым ястребом, распростершим свои могучие крылья?..
Хентей‑хана в Джералане любили столь же сильно, сколь ненавидели Хайя Лобелголдоя. Надо бы сказать — его отца. Но кому какое дело?..
Похороны Алагат были такими пышными, что подобной церемонии не помнили даже старики. Стадо из пятидесяти белоснежных быков было принесено в жертву у алтаря Ака‑Мана. Пятьдесят черных, как тоска, съедавшая сердце владыки, быков были отогнаны к храму Джоу Лахатала, чтобы заступился перед своим безглазым братом за жену хана и мать наследника. И пятьдесят серых, как туман, как беспросветное прошлое и несуществующее будущее, быков были отданы самому Баал‑Хаддаду — Богу Мертвых, — чтобы радушно принял свою гостью и воздал должное ее сану.
Целый день курились благовония и в храмах остальных божеств, а по всему Джералану молились люди, чтобы облегчить последний путь Алагат.
Она проплывала над толпой, подставив безжалостному слепому солнцу свое изможденное, искаженное болью и мукой лицо, лежа в золотой ладье, которую несли на поднятых руках двадцать самых сильных воинов. В этой ладье ее положили в могилу и насыпали огромный курган — десять тысяч человек сносили землю для могильного холма ханской жены.
Поговаривали, что Хайя Лобелголдой пышно, но слишком поспешно распростился с супругой, — а вдруг сын захотел бы в последний раз увидеть мать? Но тщетно ждали бальзамировщики приглашения во дворец владыки — одетая в лучшие свои одежды, украшенная драгоценностями, ушла Алагат на Заоблачные равнины, не дождавшись приезда Хентей‑хана.
Вместе с женой похоронил хан двенадцать самых лучших жеребцов из своих табунов, двенадцать молодых и сильных рабов и красавиц рабынь. И еще похоронил свою тайну.
А вечером того же дня трое всадников на взмыленных лошадях ворвались в Дехкон через Восточные ворота и. бешеным галопом промчались прямо ко дворцу. Хентей‑хан с победой возвращался домой, и гонцы торопив лись сообщить повелителю о его прибытии.
Нельзя сказать, что молодой Хентей вырос жестоким и бесчувственным, что он вовсе не любил свою мать. Но, с другой стороны, он давно уже вышел из детского возраста, командовал конным корпусом и редко бывал в Дехконе. Еще реже он встречался с Алагат в течение последних десяти лет. Поэтому смерть матери его огорчила, но не заставила страдать. Он принес богам все положенные жертвы, не дав себе ни минуты отдыха с дороги. Он пришел к могильному кургану и вылил на землю полную чашу драгоценного черного вина. И сразу после этого помчался во дворец, к отцу. В душе наследный хан оставался двенадцатилетним мальчишкой, которому очень важна была похвала Лобелголдоя, чего бы она ни касалась. И победа под стенами ал‑Ахкафа — победа, которой Зу‑Л‑Карнайн был в большой степени, обязан и тагарам, казалась Хентею неполной до того, как отец одобрит его.