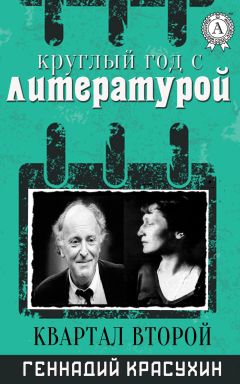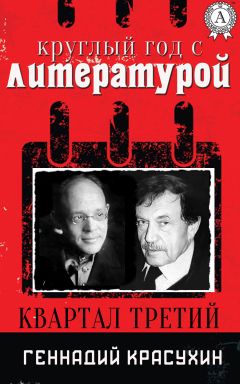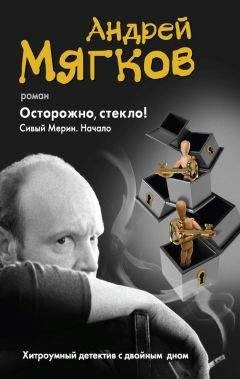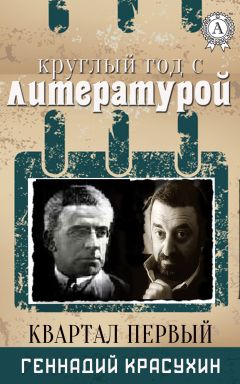Мерное, ритмичное чтение внезапно оборвалось.
– Как? – спросил Рыленков.
– Здорово! – соврал я.
– Звукопись на «д» и на «т» – это же движение и в то же время отстаивание своей правоты. Оценили?
Конечно, нет. Я никакой звукописи не уловил.
– Ещё бы! – сказал я поэту.
Разливая водку, он, улыбаясь, сообщил: «Да! Мне многие так и говорили: «Коля! Твардовский от зависти руки себе изгрызёт! Ты здесь стоишь вровень с Исаковским!».
– А можно посмотреть глазами? – спросил я, заедая водку бутербродом.
– Конечно, – великодушно разрешил Рыленков, явно истолковав мою просьбу как лишнее свидетельство восхищения.
Как я и думал, рыленковские знакомые привирали: стихи не дотягивали до Исаковского, не то что до Твардовского. Грамотные, старательные без какого-либо отпечатка личности автора.
– Ну как? – спросил меня Рыленков. И снова налил.
– Да! – изобразил восторг я и вспомнил рыленковских знакомых.
Не успели мы закусить очередную порцию, как в дверь постучали.
– Это Женя, – сказал, поднимаясь со стула Рыленков, – входи, дорогой!
В комнате появился литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Вопросы литературы» Евгений Иванович Осетров. Рыленков с ним крепко расцеловался.
– Знакомься, – сказал он ему.
– Кто же не знает Красухина? – заулыбался Осетров, пожимая мне руку. – Что-нибудь печатаешь в «Литгазете»? – спросил он хозяина.
– Не что-нибудь, а статью на три четверти полосы, – сообщил я.
– Рано обмываете, – сказал Осетров. – Статья ещё выйти должна.
– Да мы не по этому поводу, – Рыленков лучился довольством. – Мы со знакомством. Хорошая у нас с тобой, Женя, растёт смена. Любящая поэзию. Понимающая стихи. Надо бы нам всем сейчас закрепить наше дружество, – он посмотрел на пустую бутылку, а потом на меня. – Вас не затруднит спуститься в ресторан и…
– Затруднит, – сказал я и достал из портфеля бутылку.
– За что я люблю русского человека, – вскричал Рыленков, – так это за его смекалку! Возьми, Женя, стакан в ванной, на полке.
– Вот и мой молодой друг, – сказал Рыленков Осетрову во время этой нашей попойки, – тоже считает, что Твардовский от таких стихов, – он потряс своей рукописью, – изгрызёт себе руки от зависти. Это на уровне Исаковского.
– Дай-то бог, – забрал у него рукопись Осетров и углубился в чтение. – Да, – сказал он, закончив читать, – ты, Коля превзошёл сам себя!
Я подумал о рыленковских знакомых, но Осетров клонил к другому.
– Вы правы, Геннадий, – сказал он мне, – Твардовскому таких стихов сейчас не написать. Исаковский мог бы. А почему? Потому что он душою со своим народом. Вот и Коля душою со своим русским народом.
– А Твардовский? – удивился я.
– Был, – твёрдо сказал Осетров. – И когда был, какие вещи писал! «Василий Тёркин», «Страна Муравия».
– Ну, «Муравия»… – неопределённо протянул Рыленков.
– Очень сильная, Коля, вещь, – убеждённо ответил Осетров, – выражающая душу русского крестьянина. А что сейчас?
– А сейчас, – сказал я, – «Из лирики этих лет». Великая книга.
– Великая? – вскричал Осетров. – На уровне «Василия Тёркина»?
– По художественной силе – на уровне, – ответил я. – Помните «Памяти матери»? А «Перевозчик-водогребщик»?
– Неплохие стихи, – согласился Осетров. – Но на них лежит отсвет нынешнего окружения Твардовского.
– Сионистского, – уточнил Рыленков.
– Да, – согласился Осетров. – Не поддайся Твардовский этим своим сионистам в «Новом мире», ему бы и сейчас как поэту цены не было.
– Почему именно сионистам? – удивился я. – Кто именно в «Новом мире» сионисты?
– Вот так вопрос! – Осетров изумлённо развёл руками. – Да вы откройте справочник Союза писателей и проверьте имена-отчества авторов, допустим, критического раздела журнала Твардовского. Там давно уже сформировалось сионистское лобби.
– Крепкое, – подтвердил Рыленков, – сплочённое, продвигающее друг дружку!
– Причём тут имена-отчества? – спросил я. – Какое это имеет отношение к сионистам?
– Самое прямое, – сказал Осетров. – Вот меня, например, зовут Евгений Иванович, его, – он показал на Рыленкова, – Николай Иванович, вас – Геннадий… – он вопросительно посмотрел на меня.
– Не Иванович, – разочаровал было я его, – Григорьевич.
– Нет вопросов, – резюмировал Осетров. – Нормальное русское отчество. Не Наумович и не Абрамович.
– Так вы про сионистов говорите или про евреев?
– А это, как правило, одно и то же. Кстати, вы недавно в «Литгазете». Заметили, наверно, сколько там сионистов? Неудивительно, если во главе стоит Александр Борисович Чаковский. А он…
– Он не сионист, – сказал я, – он еврей.
– Нам, русским людям, которым дорога наша национальная литература, – начал Осетров, – нужно быть особенно бдительными, находясь в таких коллективах. Очень хорошо, что вы пришли в «Литературную газету». Сможете присоединиться к тем, кто противостоит там сионистскому напору.
– Не смогу, – ответил я. – Если сионисты – это попросту евреи, то не смогу. Потому что и сам имею какое-то отношение к этой нации.
Я не помню, как мы расстались. Немой сцены не было.
* * *
Вот, на мой взгляд, кому не повезло, так это Александру Христофоровичу Бенкендорфу, родившемуся 23 июня 1782 году.
Ну, погибни он на фронтах войны с Наполеоном, и вошёл бы в историю как выдающийся военачальник, герой войны, военный комендант Москвы после ухода из неё Наполеона, блистательный генерал, взявший при преследовании наполеоновских войск в плен трёх генералов и более 6000 нижних чинов. Наконец, как прекрасный военный стратег, сумевший в 1813-м одержать немало побед над наполеоновскими войсками в Пруссии, очистить от них Голландию, взять бельгийские города, а в 1814-м – командовать всей конницей у генерала Воронцова, участвовать в победном для объединённой прусско-русской армии сражении под Краоном, во многом предопределившем исход войны.
А умри Бенкендорф в год смерти императора Александра, и он остался бы в благодарной памяти соотечественников тем смельчаком, который во время петербургского наводнения 1824 года спрыгнул с балкона, на каком стоял рядом с императором, доплыл до лодки и весь день спасал народ вместе с военным губернатором Петербурга М.А. Милорадовичем.
Но, увы. История, как известно, сослагательного наклонения не знает. После восстания декабристов новый император России Николай I 25 июня 1826 года назначает Бенкендорфа шефом жандармов, а через восемь дней ещё и главным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярией и начальником Главной Его Императорского величества квартирой.
И – всё. И репутация Бенкендорфа у современников и потомков оказалась безнадёжно загубленной.
И вышло, что война 1828–1829 гг. с турками, где Бенкендорф сопровождал государя, отличился в сражениях, был за это произведён в генералы от кавалерии, не добавила положительных красок репутации генерала. В 1832 году он будет возведён в графское достоинство, но все обратят внимание не на его военные заслуги, а на то, какой пост он занимал. Получалось, что в графское достоинство был возведён главный жандарм России.
Об их отношениях с Пушкиным хорошо известно. Царь назначил Бенкендорфа быть своим посредником между собой и поэтом, и Бенкендорф осуществлял эту роль весьма ревностно. Известно, как возмутился Пушкин, узнав, что его личная переписка перлюстрируется тайной полицией. «Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство á la letre (буквально – фр.)», – писал он жене. Знаем, как строго взыскивал с поэта Бенкендорф за любую оплошность, любое нарушение императорской воли.
Современники ещё могли уважать графа Бенкендорфа за то, что назначенный в 1840 году присутствовать на заседаниях комитетов о дворовых людях и по преобразованию еврейского быта, он, в отличие от многих, благожелательно относился к евреям и способствовал улучшению их быта.
Но в памяти потомков он остался императорским цербером – сторожевым псом империи Николая Первого. Умер Бенкендорф 23 сентября 1844 года.