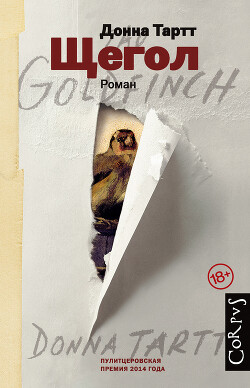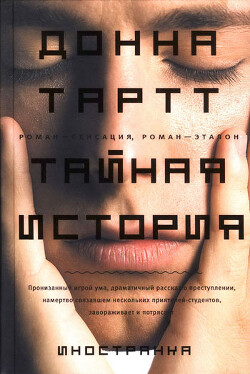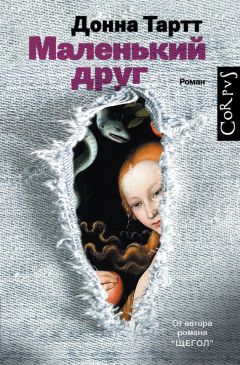И вдруг, совершенно неожиданно, мистер Павликовский протянул мне обе руки.
— Спасибо, — хрипло сказал он.
Я, конечно, боялся к нему приближаться — это как к дикому зверю подходить, но все равно шагнул, неловко выставив вперед руки. Он ухватил их своими задубевшими, холодными ладонями.
— Ты хороший человек, — сказал он. Взгляд у него был налитый кровью, чересчур пристальный. Я захотел отвернуться и сам себя устыдился.
— Дай тебе бог здоровья и всего наилучшего, — сказал он. — Ты мне как сын. За то, что принял моего сына в вашу семью.
В нашу семью? Я в замешательстве оглянулся на Бориса.
Мистер Павликовский перевел взгляд на него:
— Ты ему рассказал, что я сказал?
— Он сказал, что ты теперь — член нашей семьи, — скучающим тоном сказал Борис, — и если он может тебе хоть чем-нибудь помочь…
К превеликому моему удивлению мистер Павликовский притянул меня к себе и основательно так обнял — я зажмурился, изо всех сил стараясь не замечать, как от него пахнет: кремом для волос, немытым телом, алкоголем и каким-то резким, отвратительно пахучим одеколоном.
— Это вот что вообще было? — тихонько спросил я, когда мы поднялись в Борисову комнату и закрыли дверь.
Борис завел глаза к потолку:
— Уж поверь. Тебе этого знать не надо.
— И что, он всегда такой — налитой? А как его еще не уволили? — Борис хихикнул:
— Он в компании большая шишка, — ответил он, — типа того.
Мы с Борисом сидели в полутемной, задрапированной батиком комнате до тех пор, пока по двору не прогрохотал грузовик его отца.
— Не скоро теперь вернется, — сказал Борис, когда я отпустил занавеску и она качнулась обратно. — Он расстраивается из-за того, что подолгу оставляет меня одного. Он знает, что скоро праздник, и спрашивает, могу ли я пожить у тебя дома.
— Да ты и так все время у нас.
— Он знает, — сказал Борис, зачесывая пятерней волосы назад, с глаз. — Потому и благодарил тебя. Но насчет твоего адреса я наврал, надеюсь, ты не против.
— Почему?
— Да потому, — он подобрал ноги, чтобы я мог усесться с ним рядом — и просить не пришлось, — что-то мне кажется, ты не обрадуешься, если он пьяный завалится к вам домой посреди ночи. Перебудит твоего отца с Ксандрой. Да, и вот еще что, если он вдруг спросит — он думает, что фамилия твоя — Поттер.
— Почему?
— Так лучше, — невозмутимо сказал Борис. — Поверь мне.
20
Мы с Борисом лежали на полу перед нашим телевизором, ели чипсы, пили водку и смотрели парад «Мэйсис» в честь Дня благодарения. В Нью-Йорке шел снег. На экране только что промелькнули огромные надувные фигуры — Снупи, Рональд Макдональд, Губка Боб, мистер Арахис, — на Геральд-сквер танцевала труппа гавайских танцоров в набедренных повязках и соломенных юбках.
— Не хотел бы я быть на их месте, — заметил Борис, — спорим, они уже все жопы себе поморозили.
— Ага, — ответил я, хоть и не обращал никакого внимания ни на шары, ни на танцоров. Увидев Геральд-сквер по телевизору, я почувствовал себя так, будто застрял в миллионе световых лет от Земли и вдруг поймал сигналы первых радиостанций: голоса дикторов и аплодисменты слушателей из давно исчезнувшей цивилизации.
— Придурки. Ну разве можно так одеваться? Девчонки лечиться потом будут. — Борис, конечно, яростно жаловался на жару в Лас-Вегасе, но при этом еще и неколебимо верил в то, что заболеть можно от чего угодно «холодного»: от бассейнов без подогрева, от кондиционера у меня дома и даже от льда в напитках.
Он перекатился на спину и передал мне бутылку.
— Ходили на такой парад? С мамой?
— Не.
— А чего нет? — спросил Борис, скармливая Попперу кусок чипса.
— Nekulturny, — слово это я подцепил от Бориса. — И туристов толпы.
Он закурил сам, протянул сигарету мне.
— Грустишь?
— Немножко, — ответил я, наклонившись прикурить от его спички.
Я все вспоминал прошлый День благодарения, он снова и снова прокручивался у меня в голове, словно фильм, который никак не выключить: вот мама шлепает по квартире босиком, в старых джинсах с пузырями на коленках, открывает бутылку вина, наливает мне немного имбирного эля в бокал для шампанского, выставляет на стол оливки, делает музыку погромче, надевает дурацкий праздничный фартук, разворачивает купленную в Чайнатауне грудку индейки — и тотчас же отшатывается, сморщив нос: «Господи, Тео, да она протухла, открой-ка мне дверь!» — от аммиачной вони в глазах слезится, мама несется вниз по пожарной лестнице, держа индейку перед собой на вытянутых руках, будто неразорвавшуюся гранату, выскакивает на улицу, мчится к мусорным бакам, пока я, высунувшись из окна, с восторгом изображаю, будто меня тошнит. Мы скромно поужинали консервированной зеленой фасолью, консервированной клюквой и коричневым рисом с жареным миндалем: «Наш вегетарианский социалистический День благодарения», — шутила мама. Мы ничего особенного не планировали, потому что у мамы на работе горел какой-то проект; в следующем году, пообещала она (от смеха у нас уже болели животы, отчего-то испорченная индейка вызвала у нас приступ невероятного веселья), возьмем машину напрокат и съездим в Вермонт, к ее другу Джеду или же закажем столик в каком-нибудь шикарном ресторане вроде «Грамерси Таверн». Только этого будущего не стало, и я отмечал алкогольно-чипсовый День благодарения перед теликом с Борисом.
— Что есть будем, Поттер? — спросил Борис, потирая живот.
— Чего? Ты есть хочешь?
Он покрутил туда-сюда ладонью: comme ci, comme ça [44].
— А ты?
— Не особо, — я изодрал себе все небо чипсами, и от сигарет меня уже мутило.
Внезапно Борис привскочил, завывая от смеха.
— Слушай, — сказал он, пнув меня, тыча в экран, — ты слышал?
— Что?
— Новостник. Поздравил с праздником своих детей. «Сволочь и Кейси».
— Да брось, — Борис вечно путал на слух такие вот английские слова — получались иногда забавные, но чаще всего просто глупые слуховые малапропизмы.
— «Сволочь и Кейси»! Вот ведь, а? Ну ладно Кейси, но собственного ребенка в праздничной программе обозвать «Сволочью»?
— Да не говорил он этого.
— Ладно, ладно, ты у нас все знаешь, и что же он тогда сказал?
— Хрена ли я должен знать-то?
— Тогда чего ты со мной споришь? Почему ты все всегда лучше знаешь? Да что такое с вами, американцами? Как может такая тупорылая нация быть такой богатой и такой высокомерной? Американцы… кинозвезды… телезвезды… назовут детей Яблоками, Одеялами, Голубыми и Сволочами и еще хрен знает как.
— И это ты к чему?..
— Это я к тому, что у вас любая херь демократией называется. Насилие… жадность… тупость… но если это делают американцы, то все ок. Ну что, я не прав? Не прав?
— Вот ты никак не заткнешься, да?
— Я знаю, что я слышал, ха! Сволочь! Вот что тебе скажу. Если б я думал, что у меня ребенок — сволочь, хрена с два я б его так назвал.
В холодильнике были крылышки, такитос и маленькие колбаски, которые принесла Ксандра, и еще дим-самы из китайского торгового центра, где любил есть отец, но когда мы наконец собрались поужинать, бутылка водки (Борисов вклад в День благодарения) уже наполовину опустела, и мы медленно, но верно собирались блевать.
Борис по пьяни, бывало, серьезнел, поддавался русской любви к проблемным темам и вечным вопросам и сидел теперь на мраморной столешнице, размахивал нацепленной на вилку колбаской и несколько горячечно рассуждал о нищете, капитализме, глобальном потеплении и о том, в какую жопу катится этот мир.
Я начал терять связь с реальностью и сказал:
— Борис, заткнись. Не хочу это слышать.
Он сходил ко мне в комнату за школьным экземпляром «Уолдена» и зачитывал оттуда какой-то пространный пассаж, который якобы подтверждал что-то там, что он пытался мне доказать.
Брошенная книга — к счастью, в мягкой обложке — чиркнула меня по скуле.