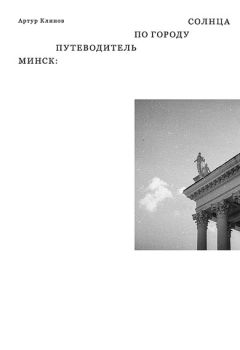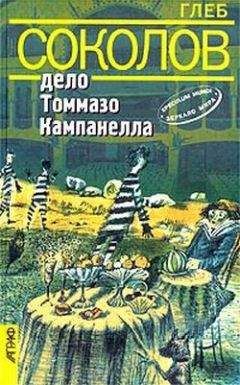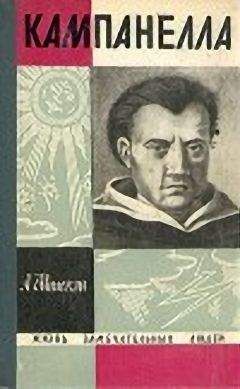Ознакомительная версия.
Дворец-окно
Мы все по-разному покидали страну Счастья. Кто-то никогда в ней не жил, кого-то выселяли насильно, а кто-то сам оставил ее, когда она умирала. Я же покинул ее намного раньше своих сверстников. Я рос в еврейском квартале, а евреи всегда почему-то хотели уехать из Города Солнца. У них были родственники в другом мире, которые в письмах рассказывали об изобилии, совсем не похожем на наше изобилие из гипса. Потом появился отец, потом дядя Ришард, друг матери, который ненавидел страну Счастья. Затем я стал находить другие книги. Потом появилась Вильня. Я полюбил Вильню с первого вздоха. Ее воздух напоминал запах Немиги, любимого города детства, наполненного ароматом каминного дыма. Вильня находилась совсем близко от Города Солнца, всего каких-то сто семьдесят километров пути, три часа на неторопливом утреннем поезде – и ты уже вдыхал аромат первой чашки кофе в Вайве, кавярне неподалеку от костела Святого Яна. Мы выбирались в Вильню без каких-то специальных дел на выходные, чтобы просто прогуляться по ее старым улицам, попить вина в тихих двориках. Не спеша выкурить сигарету в подворотне на Gorkio, наблюдая за неторопливо шествующими мимо прохожими. Сходить к ручью под горой Гедимина, к дикому заросшему месту с дивной энергией и бесчисленным количеством улиток в барочных платьях, медленно поднимавшихся по стволам старых деревьев. Этот город был таким непохожим на наш. В нем жила тишина и спокойствие его вечных стен. Но из этой тишины доносился едва заметный, проникавший в самую глубь тебя, зовущий голос. Это был голос крови, бессонница крови. Бессонницы кровавые берега манили тебя, взывали, хотели тебя пробудить. Немига возвращалась в Вильне, в нашей древней столице. Ее подземные воды несли кровавую правду. Ту правду, которой она устилала свои невидимые подземные берега. Она взывала испить эту чашу похожей на вино красной воды. Испробовав ее горечь, бессонница правды возвращалась, лишала сна, делала тебя несчастным в осознании несправедливости. Горькая вода Немиги в твоей крови требовала, взывала, жаждала торжества справедливости, путь к которой лежал через свободу, обрести которую можно было лишь в братстве.
В Вильне началось пробуждение. Пробуждение, которое несло кровавую правду реальности. Пространство пустынной земли заполнялось городами, событиями, людьми, унесенными водами подземной реки. Открытия следовали одно за другим. Каждое было жестоким и ужасным. Правда Литвы фрагмент за фрагментом восстанавливалась в нашем сознании. Появлялись новые люди, которые тоже хотели знать правду. Правда Империи поила нас водой из другой реки – Леты, в которую должны были кануть ее преступления, совершенные здесь за столетия. Нам не хотелось больше пить эту отравленную ложью воду. Мы искали другие книги. Этих книг было мало. Слишком долго Империя сжигала их и убивала людей, которые могли их написать. Книги, что доходили до нас, набирались на машинке с редких оригиналов, какие-то печатались с негативов на фотобумаге. Я и сам с моим новым другом Змитером Савкой тиражировал их. В старших классах я понемногу начал заниматься фотографией. У меня был фотоувеличитель и все необходимое для фотопроцесса. Мы запирались в ванной комнате квартиры на Червякова и, сидя в крохотном черном пространстве под красной лампой, с негативов печатали книги. Сотни страниц текста на фотобумаге небольшого формата. Я помню, как они появлялись из-под воды – буквы, слова на белом листе. Вначале едва различимые, затем они проступали отчетливей, набирали силу и, наконец, становились черным текстом на белой бумаге. Раз, два, три, четыре, пять – щелчок затвора увеличителя, и в ванночку с проявителем в маленькой подпольной лаборатории, затерянной в сотах Города Солнца, отправлялась следующая, пока еще белая, страница правды, которую мы искали. Вода, в которую падал лист, была водой Немиги. Она призывала невидимые слова проступить из пустоты страницы, лежавшей в темноте комнаты, освещенной светом кровавых берегов. И они вновь появлялись, черные и жестокие, как правда. Раз, два, три, четыре, пять… Я больше не ходил на демонстрации и не смотрел по телевизору парад на Красной площади в День Революции. У нас появились свои праздники – Купалле и Гуканне весны, шедшие от древней традиции этой Земли. Гуканне весны мы справляли в марте. Большой снег уже покидал Город, оставаясь лежать окаменевшими пятнами в местах, куда не проникало солнце. Мы садились в электрички и отправлялись на старое замчище в Заславле, от которого сохранились земляные валы и чудом уцелевшая кальвинистская кирха. Мы выбирались за Город тайно, хоть ничего преступного не совершали, а только пели древние песни. Но уже то, что мы собираемся и говорим по-белорусски, было крамолой, бунтом против страны Счастья. В ней всегда присутствовали люди, говорившие на мове — писатели и артисты. Хоть Империя смотрела на них с подозрением, время от времени проряжая их ряды и закапывая кого-нибудь в лесу за Городом Солнца, но все равно они были нужны для создания декорации счастливой жизни народа. Нас же она считала националистами. Мы говорили на белорусском не по службе, а потому что так хотели. Мы все родились в Городе Солнца, но были неблагодарными его детьми. Мы готовили бунт против этого Города. Сырым, прохладным весенним днем на засыпанных руинах древней культуры мы пели старинные песни и звали весну прийти в этот Город, вернуться на эту землю. Нам было шестнадцать, и мы искренне ликовали, что этой весной среди уходящих снегов под пасмурным небом нас уже десять, двадцать, тридцать, пятьдесят.
Пищаловский замок и его архив
Страна Счастья умирала долго. Вначале она долго болела. Душа – вера людей – постепенно ее покидала. Потом стали умирать метафизики, один за другим, так быстро, что мы не успевали привыкнуть к новому, а по телевизору уже опять показывали «Лебединое озеро». Почему-то именно этот балет показывали всегда, когда уходил Метафизик или кто-то из верховных жрецов страны Счастья. Наверное, «Лебединое озеро» было Стиксом метафизиков, подземной водой, забиравшей их души. Если утром ты включал телевизор и видел белых балерин на черном, значит, в стране кто-то умер. Впервые я увидел маленьких лебедей, танцующих на иглах кремлевских звезд, когда умер Брежнев. Его смерть заканчивала большую эпоху. Начиналось тревожное ожидание неизвестности. Никто еще не знал, что страна Счастья умрет, но все предчувствовали неминуемую развязку, наступающую катастрофу. Начинался финальный акт пьесы под названием Счастье. Гроб с Метафизиком установили в Центральном Колонном зале Дома союзов, по старой традиции страны Счастья – прощаться с богами именно здесь. Тут оплакивали Ленина, здесь рыдали над телом Сталина, тут расставались с Брежневым. В телевизоре периодически появлялось изображение Дома союзов. Камера захватывала фасад вместе с площадью перед ним, по которой людской поток тянулся к черному прямоугольнику входа. Над ним висел огромный портрет Метафизика. Нижний правый угол портрета отделяла широкая черная полоса. Лепной фасад Дома союзов также украшали вертикальные черные ленты и траурные знамена. Затем на экране появлялся Колонный зал. Гроб установили на сцене в окружении траурных драпировок и массивных коринфских колонн. Его периметр усыпали цветы революции – черные, цвета запекшейся крови, гвоздики. К телу попеременно выходил караул – люди в повязках, чтобы постоять в траурной вахте. Это были его соправители – Мудрость, Мощь и Любовь, Мужество, Правосудие, Целомудрие, Усердие, Правдолюбие, Космограф, Геометр, Историограф, Поэт, Логик, Ритор, Грамматик, Медик, Физик, Политик, Моралист и другие. Когда камера давала Метафизика крупным планом, на экране появлялось его полное восковое лицо, походившее на посмертную маску. Метафизик жил так долго, что его лицо давно было похоже на посмертную маску. Стояла поздняя осень. Несколько дней перед тем страна отпраздновала последний осенний праздник – День революции. Поэтому люди, шедшие к гробу, были одеты в одинаковые серые пальто. Возможно, там присутствовали и другие цвета, но в экране моего телевизора все давно стало серым. Кто-то плакал, кто-то грустил, все были несчастны. Нескончаемо долго шел поток серых пальто под мелодию маленьких лебедей, танцующих на остриях красных звезд. Потом на экране возник катафалк – артиллерийский лафет, обтянутый черным бархатом с серой бахромой. Гроб Метафизика медленно и торжественно выплыл из проема Колонного зала. Процессия тронулась в путь – последний путь всех метафизиков. Он лежал через реку смерти Стикс – Красную площадь – к Кремлевской стене, откуда они уже не возвращались. Медленно и торжественно процессия переплывала Красную реку. Метрономы в парадных мундирах отбивали ритм рядом с гробом. Их пружинные механизмы задавали темп всей процессии. Маятники ног касались площади в такт, издавая монотонное, размеренное: тик-так, тик-так, тик-так. Перед гробом плыли серые квадраты атласных подушек, на которых лежали белые ордена Метафизика. Множество, десятки квадратов с маленькими звездами в центре. Медленно и торжественно один за другим двигались они перед телом Хозяина. За ними руки в черных перчатках несли черные гербы в траурных лентах с диадемами скорби. За гербами плыл катафалк, украшенный портретом Хозяина в черной оправе. За гробом, сгорбившись в скорби, шла семья Метафизика. За ними в каракуле шествовала Любовь, Мудрость и Мощь. Затем шли бобровые шапки. Следом ондатровые. Кроличьи шапки безмолвно стояли по периметру площади. Медленно процессия приближалась к Кремлевской стене, к кладбищу богов, раскинувшемуся по обе стороны Каабы страны Счастья – темного пирамидального камня с мумией Ленина, пророка, ставшего Богом, внутри. Гроб с Метафизиком плыл к черному параллелепипеду в земле, находившемуся у самой стены, в окружении острых конусов серых елей. Когда процессия прибыла, случилось нечто, заставившее на мгновенье вздрогнуть всех сидевших у телевизоров. Метрономы, отбивавшие ритм, вдруг дали сбой. Когда гроб опускали в параллелепипед, веревка в белой перчатке одного из участников церемонии соскользнула. Еще мгновенье – и гроб рухнул бы в могилу. В следующую секунду ритм поправился, и тело Метафизика медленно погрузилось на дно. Но все поняли, что это дурной знак. Однако поправить уже ничего было нельзя. Когда гроб с Метафизиком опустился в могилу, в предместьях завыли трубы заводов. Они взревели в предместьях всех городов. Долгий мучительный крик облетел пространство этого осеннего дня. Он пронесся над притихшим проспектом, над парками, над пустынными площадями Желтого Города. Предместья Города Солнца рыдали. Они прощались со страной Счастья.
Ознакомительная версия.