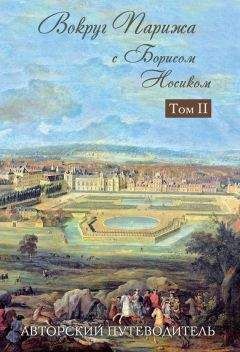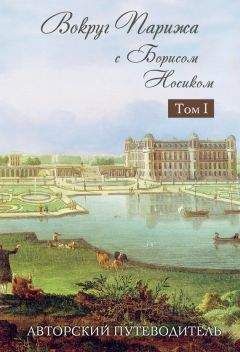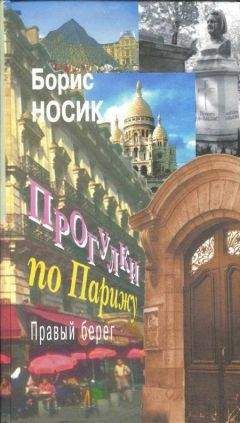Большой парк Сен-Клу с его садами Трокадеро, распланированными во времена Второй империи в английском стиле, а также бассейны, лужайки, фонтаны, аллеи, холмы и лес – все это делает Сен-Клу идеальным местом для прогулок. Любители старины могут, впрочем, и в самом городке найти кое-что интересное – вроде больницы, основанной Марией-Антуанеттой, или статуй XVII века в неоготического стиля церкви городка.
Мне доводилось бывать в гостях на тихой зеленой улочке этого городка у приятеля, имевшего там виллу. Выйдя от него как-то поздно вечером на улицу, я повстречал марокканца с двухколесной тележкой. Он доверительно спросил меня, не видел ли я вещи. Убедившись, что я не понимаю, о чем речь, он объяснил мне, что обитатели вилл часто выбрасывают за ворота всякое старье, а он подбирает. Потом он продает его на блошином рынке у заставы Монтрёй.
– Здесь старые вещи не такие старые, как в других местах, – сказал он доверительно. – Люди тут живут богатые.
Я пожелал ему удачной охоты и повернул к метро.
– До встречи, – сказал он дружелюбно.
– До встречи на блошином рынке! – уточнил я.
Помню, что, расставшись в конце концов с французской переводческой конторой, с ее дураком-начальником, с бесплатной столовкой и зданием из темного стекла, я не перестал гулять по дорожкам прекрасного парка Сен-Клу, но теперь мне вспоминались здесь на досуге совсем другие истории, из другого века. Я вспоминал молодого красавца Дюма-сына, влюбившегося в шальную русскую дамочку, жену дипломата Дмитрия Нессельроде Лидию, которая лечилась в Париже от семейной хандры и без труда обольстила поэта, лишь недавно потерявшего чахоточную «даму с камелиями». Влюбленные бродили целый день по дорожкам этого самого парка, а потом молодой Дюма прочитал своей даме (в присутствии умиленного Дюма-папеньки) свои новые стихи:
Мы ехали вчера в карете и сжимали
В объятьях пламенных друг друга: словно мгла
Нас разлучить могла. Печальны были дали,
Но вечная весна возлюбленным цвела.
Распустятся цветы, и, завлеченный ими,
Я в этот сад приду взглянуть на пьедестал,
На нем я написал заветнейшее имя,
Его, быть может, ветер тут же разметал.
Как знать, куда к тем дням
Вас, странница, забросит?
Вы бросите меня, останусь я один,
Страдая, что вас вновь веселый ветер носит,
Я ж зябну летним днем среди зимы седин.
Ведь что для нас зима? Не холода дыханье,
Не погрустневшая пустыня наших троп:
То в сердце бедном мгла и духа увяданье,
Коль та, что здесь была, на встречу не придет…
Папа Дюма порадовался за моралиста-сына и замужнюю русскую даму. «Я покинул этих прелестных и беспечных детей в два часа ночи, – пишет он, – моля бога любовников порадеть о них…» Но бог любовников на сей раз не смог помочь. Приехал муж Лидии и силком утащил лихую даму в Петербург, в лоно семьи, к малолетнему сыну. Молодой Дюма гнался за супругами до самой русской границы, через которую его не пропустили. Он долго маялся один в польском приграничном местечке, Лидия не отвечала на письма, ему пришлось вернуться в Париж… В конце декабря он поехал один в парк Сен-Клу, бродил по дорожкам, писал продолжение того, прежнего стихотворения:
Сегодня ровно год с тех пор, как мы с тобою
Гуляли по лесу, одни, совсем одни,
Но я был и тогда предупрежден судьбою,
Что грустная зима изгонит эти дни.
Любовь не дождалась весеннего расцвета,
Лишь робкий луч, блеснув едва, согрел сердца,
Как разлучили нас – и до скончанья света
В разлуке нам прожить, быть может, до конца.
Я встретил ту весну в стране чужой, далекой,
Прикован был мой взгляд к пустынному пути,
Без близких, без любви, без ласки, одинокий,
Я думал, ты должна когда-нибудь прийти.
Ты обещала, я не получил ни слова,
Ни знака, ни строки – была пустынна даль…
Ловил я эхо, чтоб услышать снова
В далеком имени текучую печаль.
Листок бумажный – разве так уж много?
Четыре строчки – невеликий труд.
Не хочешь написать, так выйди на дорогу,
Где розы красные среди полей цветут.
Сорви лишь лепесток и спрячь его в конверте,
Отправь изгнаннику в его унылый быт —
Улыбкой для него, спасением от смерти
И знаком, что не вовсе он тобой забыт…
Но вот и год прошел, недремлющее время
Меня вернуло в день и в тот лесной простор,
Когда, склонив ко мне задумчивое темя,
Вела ты о любви неспешный разговор.
Погруженный в чужие горько-сладкие любовные беды минувших времен, я не заметил, как, пройдя через сад Трокадеро, мимо цветов и старинных деревьев, мимо каскадов и прудов, оказался я где-то у ограды, у опушки леса и только тогда обнаружил, что вторгся уже на территорию крошечного городка Виль-д’Аврэ (Ville d’Avray)… Солнечные лучи пробивались сквозь зеленый полог леса, безмятежно щебетали птицы, шуршал где-то неподалеку фонтан… К этому времени я давно забыл уже о неудачных опытах французской штатной «службы», зато вспомнил, как прекрасна сельская Франция, даже здесь, в двух шагах от окраины Парижа…
Мне вспомнилось, что еще и любимый Пушкиным поэт Альфред де Мюссе укрывался в этом тихом Виль-д’Аврэ от своих тревог и несчастий. Тоже утешался стихами…
Вот роща. Шаг один – и, словно птичек стая,
Вспорхнула молодость счастливая моя.
О край, где некогда ступала дорогая,
К тебе вернулся я.
О слезы сладкие, они уже готовы
Из раненой души пролиться на простор.
О, пусть они текут, пусть дымкою былого
Мне застилают взор!
Я не затем пришел, чтоб ропотом напрасным
Тревожить эхо рощ, встречавших здесь меня.
Горды, они стоят в спокойствии прекрасном,
Горд и спокоен я.
О сила времени! О легких лет теченье!
Стон, крик наш, жалобы – уносят всё года.
Лишь увядающих цветов из сожаленья
Не топчут никогда…
Романтический красавец Альфред де Мюссе вспоминал под сенью этих рощ так печально для него завершившиеся поездку в Италию и лесные прогулки с мужественной дамой, недаром поменявшей женское имя Аврора на мужское, – Жорж Занд.
КАСКАД В ПАРКЕ СЕН-КЛУ
Фото Б. Гесселя
Здесь же, в Виль-д’Аврэ, томилась и другая жертва роковой Жорж Занд – романтический музыкант Фредерик Шопен, который ненамного пережил разлуку с этой плодовитой романисткой…
Смолк в Виль-д’Аврэ рояль Шопена, прошли годы, и зазвучала в гуще садов на окраине этого леса скрипка Иегуди Менухина – все здесь же, в сладостном Виль-д’Аврэ, близ замка, построенного камердинером Людовика XVI Тьери де Виль-д’Аврэ. В деревенской церкви Сен-Никола, построенной в эпоху, когда был обезглавлен революцией злосчастный король, можно увидеть (более поздние, конечно) фрески и картину кисти славного Камиля Коро. Он тоже обитал в Виль-д’Аврэ, в доме № 3 на Озерной улице, и всякому любителю живописи здешние пруды знакомы по картинам Коро. В одном из укромных уголков прибрежья, где художник прятался в лачужке и работал, благодарное потомство поставило монумент. Скромный монумент не производил шума, он не мешал играть на трубе и писать книги обитавшему здесь Борису Виану, которого молодой русский критик назвал недавно «человек-оркестр». В дачном Виль-д’Аврэ искали вдохновения Бальзак, Ростан и скульптор Прадье.
Виль-д’Аврэ утешал и русских романтиков в их любовных невзгодах, напоминая о вечности и несравненной красе природы. Весенним днем 1848 года романтический тридцатилетний Иван Тургенев писал владычице своего сердца Полине Виардо (которая была еще страшнее и ненадежнее, чем Жорж Занд, зато умела петь):
«Я воспользовался хорошей погодой, чтоб отправиться сегодня в Виль-д’Аврэ… Больше четырех часов провел я в лесу – грустный, растроганный, настороженный, поглощающий и поглощенный… Я не мог без волнения созерцать ветви, покрытые увядшими и зазеленевшими листьями, которые четко проступали на фоне синего неба – отчего? Да, отчего? Может, из-за этого контраста между крохотным стебельком, вздрагивающим от всякого дуновенья, от моего дыханья, стебельком, обреченным уже на гибель, однако оживленным щедрыми соками, вернувшими ему цвет и жизнь, – контраста между ним и огромностью этой пустоты, этого неба, которому лишь земля наша дает синеву и сиянье?»
Среди прочих знаменитых людей в Виль-д’Аврэ (на улице Прадье, 29) жил и умер сын поэта Эдмона Ростана, автора прославленного «Сирано де Бержерака». Сын тоже писал книжки, только научные, он был биолог и публицист, член Французской Академии.
Прошло каких-нибудь семьдесят лет после визита Тургенева, и в тихий Виль-д’Аврэ приехал другой русский писатель – Александр Куприн: бродил по тропинкам вдоль прудов, думал свои стариковские эмигрантские думы, однако еще и писал понемногу. Через полтора десятка лет, в страшном для России 1937-м, совсем уже больного и плохо соображавшего, что к чему, Куприна вдруг увезли на родину что-то прославлять и оправдывать, умирая… Но тогда, в 1921-м, он был еще в здравом уме, принимал гостей, только просил их, если можно, не спорить о политике, а наслаждаться природою и покоем. Он даже повесил в столовой своего домика на видном месте отчаянный плакат: «Прошу в моем доме о политике не говорить». И правда, зачем о ней говорить, когда такая благодать кругом?