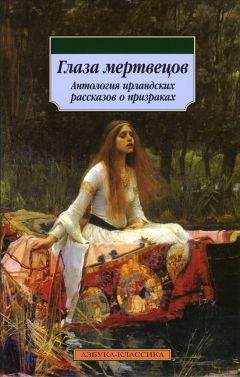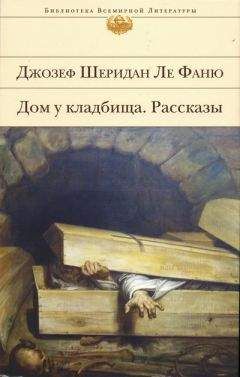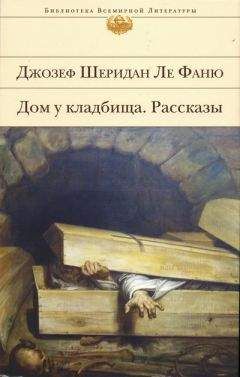— Моя дорогая, вы ослышались; в юности все такие рассеянные. Вы поступите разумно, если воспользуетесь недолгим пребыванием мадам в этом доме для того, чтобы немного усовершенствовать ваш французский, и, чем больше вы будете видеться с ней, тем лучше.
— Как я понимаю, мистер Руфин, ви хотель, чтобы я возобновиля обучение? — спросила мадам.
— Разумеется, и говорите при всякой возможности на французском с мадемуазель Мод… Вы порадуетесь, что я настоял на этом, моя дорогая, — сказал он, обращаясь ко мне, — когда попадете во Францию. Вы обнаружите, что там не говорят ни на каком другом языке. А теперь, дорогая Мод, — нет, больше ни слова! — вы должны покинуть меня. Прощайте, мадам!
Он выпроводил нас несколько нетерпеливо, и я, не взглянув на мадам де Ларужьер, потрясенная, разгневанная, прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь.
Я стояла у окна — то же свинцовое небо, тот же мокрый снег, лепившийся к стеклу, — и пыталась осмыслить открытие, только что мною сделанное. Меня охватило отчаяние, я бросилась на кровать и разрыдалась.
Добрая Мэри Куинс, с ее бледным, участливым лицом, конечно, сразу же оказалась рядом.
— О Мэри, Мэри, она приехала… эта ужасная женщина, мадам де Ларужьер, она приехала и вновь будет моей гувернанткой. А дядя Сайлас ничего не хочет слышать о ней и ничему не верит. Я все ему рассказала, но он держится своего мнения. Была ли на свете девушка несчастнее меня? Кто бы такое вообразил, кто бы опасался такого? О Мэри, Мэри, что мне делать? Что будет со мной? Неужели мне никогда не избавиться от этой странной злопамятной женщины?
Мэри как могла утешила меня. Я считаю ее слишком значительной особой, говорила Мэри. Кто она, в конце концов? Всего лишь гувернантка. Она не причинит мне зла. Я больше не дитя — она не запугает меня. А мой дядя, пусть на время впавший в заблуждение, скоро во всем разберется.
Вот такие речи говорила добрая Мэри Куинс и наконец немного успокоила меня: я начала думать, что, возможно, придаю слишком большое значение приезду мадам. Но все же воображение, этот инструмент ясновидения, являло мне, как в зеркале, ее ужасный образ, с чудовищными тенями, мечущимися у нее за спиной.
Через несколько минут раздался стук в дверь, и появилась мадам собственной персоной. Она была в костюме для прогулок. Снег прекратился, и она предлагала вместе совершить променад.
Заметив Мэри Куинс, она разразилась целым потоком приветствий и комплиментов, взяла ее, как выразился бы мистер Ричардсон, «безвольную руку»{38} и пожала с удивительной нежностью.
Честная Мэри снесла все это, хотя, казалось, хотела воспротивиться: она ни разу не улыбнулась, наоборот, удрученно смотрела в пол.
— Не приготовьте ли чаю? Когда я вернусь, дорогая Мэри Квинс, у меня будет столько россказни для вас и для дорогой мисс Мод — о все мои приключения, пока я отъезжаля. Ви будете столько много смеяться. Я — что ви думаете? — чьють-чьють… на сами крёхотка… и быль бы замуж! — Она визгливо рассмеялась и потрясла Мэри Куинс за плечо.
Я сердито отказалась идти на прогулку и даже не встала, а когда она ушла, я сказала Мэри, что заключаю себя в эту комнату, пока в доме остается мадам.
Но в юности обеты добровольного самоограничения не выдержать долго. Мадам де Ларужьер изо всех сил старалась быть приятной, у нее нашлось столько историй — больше половины, без сомнения, выдуманных, — которыми она могла развлечь нас в этом месте, таком triste. Мэри Куинс стала отзываться о ней лучше. Мадам даже помогала разбирать и убирать постели, постоянно предлагала свои услуги и, казалось, начала новую страницу жизни. Постепенно она побудила меня слушать ее и наконец отвечать ей.
Такие отношения были предпочтительнее постоянных сражений, но, несмотря на ее дружелюбие и словоохотливость, я по-прежнему испытывала к мадам глубокое недоверие, граничившее со страхом.
Ее, казалось, интересовала семья, жившая в Бартраме-Хо: с непроницаемым лицом, но охотно она слушала мои рассказы о характере обитателей этого дома. Эпизод за эпизодом я пересказала ей историю Дадли, и она взяла за правило читать в газете каждое новое сообщение о «Чайке», дабы доставить мне удовольствие, а в небольшом потрепанном атласе бедняжки Милли она прокладывала курс корабля карандашом, подписывая также у каждого порта дату «упоминания». Ее явно забавляла неудержимая радость, с какой я принимала известия о продвижении Дадли, и она вычисляла расстояние: в такой-то день он удалился на двести шестьдесят миль… в такой-то — еще на пятьсот… а вот еще на восемьсот — хорошо… еще лучше… просто чудесно! Но верх блаженства — это «чарёвательное дрюгой полюшар, где он скоро будет ходить на голова за двенадцать тысяч миль от нас»! И она заливалась смехом от своей остроты.
Пусть она и потешалась надо мной, однако было большим утешением думать о безбрежных волнах, простиравшихся между мною и ужасным кузеном.
Наши с мадам отношения оказались престранными. Она удерживалась от своих излюбленных насмешек, угроз. Напротив, ее не покидали добродушие и веселость. Но я не поддавалась обману. В моем сердце затаился страх, ни на миг не рассеивавшийся от ее сомнительного благодушия. Поэтому я ликовала, когда она уехала поездом в Тодкастер за покупками перед путешествием, ожидавшим нас со дня на день. Радуясь возможности выйти, мы со старой Мэри Куинс задумали вылазку.
Мне хотелось побывать в фелтрамских магазинах — с этой целью мы и вышли из дому. Главные ворота оказались запертыми. Ключ, впрочем, торчал в замке, но поскольку мне было не под силу повернуть ключ, за дело взялась Мэри. В ту же минуту из темной сторожки сбоку появился старый Кроул, оторвавшийся от обеда и торопливо глотавший кусок. Вряд ли кому-нибудь нравилось длинное настороженное лицо старика, почти всегда небритое, немытое, изборожденное глубокими, с въевшейся грязью морщинами. Свирепо косясь на Мэри, не решаясь взглянуть на меня, Кроул поспешно вытер рот тыльной стороной ладони и прорычал:
— Брось-ка.
— Откройте, пожалуйста, мистер Кроул, — попросила Мэри, отказываясь от своей попытки.
Кроул со зловещим видом еще раз вытер рот, шаркая ногами, бормоча что-то, подошел к замку и прежде всего удостоверился, что он висит крепко. А потом вынул ключ, опустил в карман и с тем же бормотанием двинулся к сторожке.
— Пожалуйста, откройте нам ворота, — вновь попросила Мэри.
Молчание.
— Мисс Мод хочет сходить в город, — настаивала она.
— Мы много чё хотим, чё не про нас, — прорычал он, заходя в свое жилище.
— Пожалуйста, откройте ворота, — приблизившись к сторожке, попросила я.
Он обернулся на пороге и молча сделал жест, будто коснулся шляпы, которой у него на голове не было.
— Никак не могу, мэм; без разрешения от господина тут никто не пройдет.
— Вы не позволите мне и моей горничной выйти за ворота? — спросила я.
— Так не я ж, мэм, — сказал он. — Но что приказано, то приказано, и никто не пройдет тут, пока господин не разрешит.
Пресекая дальнейший разговор, он вошел к себе и закрыл дверь.
А мы с Мэри стояли и смотрели друг на друга с преглупым видом. После того как меня и кузину Милли остановили возле уиндмиллского забора, это был первый запрет, который я слышала. Впрочем, я считала, что распоряжение, неукоснительно соблюдаемое Кроулом, не могло относиться ко мне. Я переговорю с дядей Сайласом, и все уладится. А пока я предложила Мэри прогуляться в моем любимом Уиндмиллском лесу.
Я смотрела в сторону Диконова двора, когда мы шли мимо, и думала: а вдруг Красавица дома? Я действительно увидела девушку — она явно наблюдала за нами. Она стояла на пороге их хибарки, прячась в тень, и, как мне показалось, не хотела быть замеченной. Мы прошли еще немного, и я утвердилась в своей мысли, потому что увидела, как девушка побежала начинавшейся позади двора тропинкой в противоположном направлении от того, в каком шли мы.
«Вот и бедная Мэг от меня отказалась», — подумала я.
Мы с Мэри брели лесом и добрались до ветряной мельницы. Низкая, вырезанная аркой дверь была открыта, и мы вошли, поднялись на круглую площадку, где свет и тень попеременно сменяли друг друга. Когда мы входили, я услышала какой-то суматошный шорох и скрип доски, но успела заметить, взглянув вверх, только ногу, скрывшуюся в люке.
Если вы кого-то сильно любите или ненавидите, то неосознанно постигаете премудрость сравнительной анатомии и мысленно воссоздаете целое по сгибу локтя, завитку бакенбарда, краешку руки. Как быстр, как безошибочен инстинкт!
— О Мэри, что я видела! — зашептала я, освобождаясь от какого-то наваждения, приковавшего мой взгляд к самым верхним ступенькам лестницы, что исчезала во тьме открытого люка. — Уйдемте, Мэри, уйдемте!