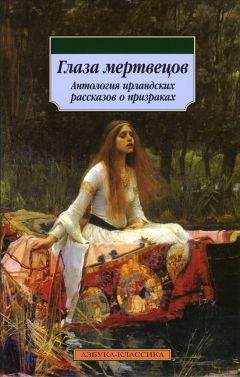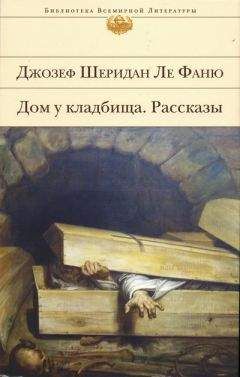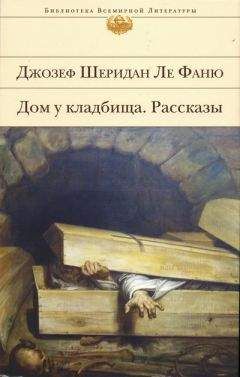— Где же остальные баулы? — спросила я, когда мадам поставила меня смотреть за ее баулом и моей дорожной сумкой в здании вокзала.
— Коридорный доставит в дрюгой кеб. Все будет в польни порядок с нами в поезд. Смотрите за этими два — ми возьмем их с собой в вагон.
И мы зашли в вагон; за нами внесли баул мадам и мою сумку. Мадам стояла в дверях и, наверное, отпугивала желавших сесть с нами пассажиров своим громадным ростом и резким голосом.
Наконец прозвенел колокол, она заняла свое место; дверь хлопнула, паровоз загудел, и мы тронулись.
Я провела ужасную ночь и вновь не смогла выспаться. Но порою я думаю, что мне в чай тогда что-то подмешивали, от чего меня одолевала неотвязная дремота. Ночь была очень темная, безлунная, и звезды скоро спрятались за облаками. Мадам, закутавшись в плед, сидела молча и размышляла. Я в своем углу, тоже закутанная, пыталась побороть сон. Мадам же явно решила, что я заснула, потому что вытащила из кармана кожаную фляжку и поднесла ко рту, распространив вокруг запах бренди.
Но напрасно я противилась расслабленности, исподволь овладевшей мною, — вскоре я уже погрузилась в глубокий сон без сновидений.
Меня разбудила мадам, вновь крайне суетливая. Она уже вынесла вещи и погрузила в поджидавший нас экипаж. Была ночь — все такая же темная, беззвездная. Я лишь наполовину проснулась. В сопровождении проводника из вагона, который нес наши пледы, мы прошли по освещенной двумя газовыми рожками платформе в самый ее конец, к маленькой дверке, и вышли.
Помню, мадам, вопреки обыкновению, не пожалела проводнику чаевых. Фонари на экипаже бросали загадочный свет; окунувшись в него на миг, мы заняли наши места.
— Пошель! — крикнула мадам и рывком подняла окно. Нас объяли тьма и тишина — чего уж лучше для размышлений.
Сон не восстановил мои силы, я чувствовала озноб и слабость, меня по-прежнему одолевала дремота, но я уже не могла заснуть.
Я клевала носом, то сознавая, где я, то почти нет; когда я пыталась представить себе Дувр, в голове плыли даже не мысли — какие-то грезы; но, слишком истомленная и вялая, я не задавала вопросов мадам, просто, откинувшись на подушки, смотрела на серые, под светом фонарей экипажа, живые изгороди, убегавшие назад, в темноту.
Мы свернули с большой дороги под прямым углом и остановились.
— Сойди и толькни — открито! — крикнула мадам вознице в окно.
Наверное, мы миновали ворота, потому что, когда опять покатили, мадам проревела, обращаясь ко мне:
— Добрались до гостинис!
Потом вновь была темнота и тишина, вновь беспамятство дремы, а очнувшись, я обнаружила, что экипаж стоит и мадам с низких ступенек у раскрытой двери расплачивается с возницей. Она сама внесла свой баул и мою сумку в дом. Я, сморенная усталостью, не думала об остальном нашем багаже.
Выходя из экипажа, я посмотрела направо, налево, но ничего не разглядела, кроме пятен света от фонарей на мощеной площадке перед дверью и на стене.
Мы вошли в холл, или в вестибюль, мадам затворила и, кажется, заперла дверь. Нас обступила кромешная тьма.
— Где свет, мадам… где люди? — спросила я, очнувшись.
— Четверти час, дьетка, но свет — всегда вот он. — Она пошарила где-то сбоку и через мгновение чиркнула шведской спичкой, а потом зажгла свечу.
Мы были в каменном вестибюле, справа виднелся сводчатый проход, слева во тьму уходили каменные стены галереи; винтовая лестница, достаточно широкая — мадам уже тащила по ней наверх свой баул, — начиналась под аркой в правом углу.
— Идемьте, дорогая дьетка, берите свой сумка… не забудьте плед, он вас не обременит.
— Но куда мы идем? Здесь никого! — сказала я, с удивлением оглядываясь вокруг. Странная какая-то была гостиница.
— Не важно, моя дорогая дьетка. Меня здесь знают и всегда приготовят мне мой комната, когда я известиль письмом. Идите за мной втихомольк.
И она стала подниматься со свечой в руке. Лестница была крутая, с протяженными маршами. На площадке третьего этажа мы свернули в длинный мрачный коридор. Мы не слышали ни единого звука и никого не видели, пока поднимались по лестнице.
— Voila![114] Вот она, мой дорогой стари комната. Входите, дражайший Мод.
И я вошла. Комната оказалась просторной, с высоким потолком, но была запущенная и унылая. Изножьем к окну стояла высокая кровать с пологом темно-зеленого плюша или бархата, пыльным и напоминавшим погребальный покров. Скудная мебель была старой, на полу возле кровати темнел прямоугольник вытертого ковра. В этой большой и мрачной комнате было холодно, будто в склепе, вид у нее был нежилой, но я заметила в камине золу. Неверный свет нашей свечи из бараньего жира усугублял гнетущее впечатление. Мадам поместила свечу на камин, заперла дверь и положила ключ в карман.
— Я всегда делаю так в гостинис, — сказала она, подмигнув мне. А потом с продолжительным «о-о-о-ох», выражавшим усталость и облегчение, она опустилась на стул. — Ми здесь наконес! — проговорила она. — Я обрадована. Это — ваша кровать. Моя — в гардеробной.
Она встала, взяла свечу; я последовала за мадам в гардеробную. Убогая складная кровать, стул и стол составляли всю ее меблировку; это был скорее чулан, чем гардеробная, не отделявшийся даже дверью от комнаты, в которой стояла кровать с пологом. Мы вернулись туда, и я, истомленная, изумленная, присела, зевая, на кровать.
— Надеюсь, нас вовремя разбудят к отходу судна, — сказала я.
— О да, никогда не подводиль… — не поднимая глаз от своего баула, проговорила она, поглощенная расстегиванием ремней.
Какой бы непривлекательной ни казалась мне моя постель, я хотела поскорее лечь и, совершив необходимое путешественнице омовение, наконец улеглась, но прежде добросовестно воткнула мою булавку-амулет с сургучной головкой в валик кровати.
От недремлющего ока мадам ничего не могло укрыться.
— Что такой, дорогая дьетка? — спросила она, подошла и стала разглядывать цыганский амулет… головку булавки, которая казалась крохотной божьей коровкой, опустившейся ко мне на постель.
— Ничего… амулет… причуда. Прошу вас, мадам, позвольте мне спать.
Еще раз оглядев булавку, повертев ее в пальцах, мадам вроде удовлетворила свое любопытство. Но, к несчастью, сама она совсем не хотела спать. Она распаковывала баул, вытаскивала и развешивала на спинке стула приобретенные в Лондоне туалеты: шелковые платья, шаль, что-то вроде кружевной наколки, тогда модной, и множество других вещей.
Суетная и неряшливейшая из женщин! Грязнуля дома — разряженный манекен на улице. Мадам поставила на камин зеркальце в квадратный фут и в нем любовалась собой, прикладывая наряд за нарядом, примеривая самодовольную улыбку на злобное и изношенное лицо.
Я понимала, что верный способ продлить мои мучения — это выразить недовольство, и я молчала. Наконец я крепко заснула, хотя перед глазами у меня все стояла костлявая фигура мадам — она задрапировалась серым в светло-вишневую полоску шелком и оглядывала себя через плечо в маленьком зеркальце для бритья, пристроенном на камине.
Утром я внезапно проснулась и села в постели, на миг позабыв о нашем путешествии. Но в следующий — все вспомнила.
— Мы не опоздаем, мадам?
— На судно? — спросила она с одной из своих чарующих улыбок и выпрыгнула из кровати. — Не сомневайтесь, они про нас не забыль. Еще два часа ждать.
— Из окон видно море?
— Нет, дражайший дьетка. Но ви посмотрите его вдоволь.
— Я, пожалуй, встану, — сказала я.
— Зачем спешить, моя дорогая Мод? Ви изнурены, ви что — корошо себя чьювствуете?
— Достаточно хорошо, чтобы встать. Мне будет, наверное, лучше, если я встану.
— Зачем спешить — незачем! И судно можно пряпустить. Ваш дядя, он сказаль мне вибрать.
— Здесь есть вода?
— Принесут.
— Пожалуйста, мадам, позвоните.
Она с готовностью дернула шнурок. Потом я узнала, что звонок не работал.
— Что сталось с моей цыганской булавкой? — вскричала я и почувствовала, как сердце у меня почему-то упало.
— О, эта штючка с красни головка? Наверно, свалилься на поль. Ми найдем, когда ви встанете.
Я подозревала, что мадам взяла ее, чтобы досадить мне. Это было в ее духе, не могу выразить, насколько утрата крохотного амулета расстроила и взволновала меня. Я искала булавку в кровати, я перевернула всю постель, искала везде. Но наконец отказалась от поисков.
— Ужасно! — вскричала я. — Кто-то выкрал ее, чтобы просто помучить меня.
Как дурочка (а я ею и была) я упала на кровать и, зарывшись лицом в подушку, расплакалась — от гнева и отчаяния.
Через какое-то время я, впрочем, перестала плакать. Я надеялась, что верну себе амулет. Если мадам выкрала его, он найдется. Но пока пропажа беспокоила меня как дурное предзнаменование.