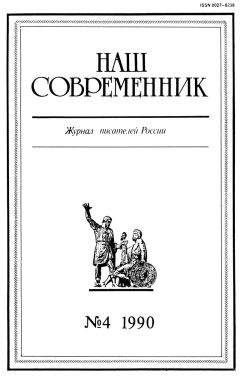Борис Екимов
Высшая мера (повесть)
Лечебница для психически нездоровых в больничном городке стоит наособицу, за кирпичной стеной. Но утро, преград не ведая, приходит ко всем одинаково.
На воле чуть брезжит еще, светает. В скорбном покое палаты для тяжелых больных — «наблюдаловки» по-здешнему, — где сутки напролет дежурят санитары и лампочка у потолка не гаснет ночью, даже там чуют утро.
Пепельный сумрак редеет на улице, в палате свет электрический желтеет и как бы меркнет. На окнах явственно проступают черные решетки. Раннее утро пробирается в палату нехотя и несмело, словно боясь и стальной паутины решеток, и окрика санитара-наблюдателя. А может быть, день новый по-детски жалеет скорбных душою, не решаясь тревожить их зыбкие, утренние сны.
Но больные просыпаются рано. Ворочаются в постелях, пытаясь продлить время сна, прячут головы от надоевшего электрического света. Торопиться некуда: до завтрака и врачебного обхода еще далеко.
Лишь Костя Любарев, с недавних пор — Константин Иванович, сорокалетний, желтолицый, худой мужик, каждое утро просыпался, будто выныривал из воды. Каждый раз что-то снилось, чаще доброе: прежняя жизнь тянулась со всем, что было в ней. А открывал глаза и замирал в испуге: душная палата, койки со всех сторон, горящая электрическая лампочка над головой, на окне — решетка, а в дверях — санитар сидит, перегородив ногами проход.
Леденил душу ужас, перехватывало дух, и казалось вначале, что это сон лишь и страшное виденье, а явь — позади, в ней он жил мгновенье назад и снова туда уйдет, стоит лишь очнуться.
Но проходили секунды, потом минуты, а ничего не исчезало. Не рушились стены, решетка на окне не пропадала. Значит, это явь была, а позади — сладкий сон.
Становилось горько до слез. И Костя плакал. Электрический свет дробился и радужно сиял в глазах.
— Константин Иванович… — негромко окликал его санитар. — Чего ревешь? Иди лучше покури…
— Покурю… — шепотом соглашался Костя и вставал.
В туалетной комнате, где курили, тоже горел желтый электрический свет, и наступавшее за окном утро казалось ненастным.
Понемногу начинались хожденья по коридору. Потом лязгали на дверях запоры, впуская медицинских сестер, санитаров, врачей. Начинали давать лекарства: таблетки да уколы. Ждали завтрака, потом врачебного обхода. Кончалось долгое больничное утро. А впереди был день.
Врачебного обхода ждали с надеждой даже в «наблюдаловке». О выписке здесь не мечтали, как божьего дара ожидая, когда разрешат переход в палату обычную: без санитара у дверей и вечного электрического света.
К часу обхода Костя Любарев уже устал от долгого утреннего бденья. Ломило виски, свинцовая наволочь тяжелила голову. Ничего не желалось. Быстрее бы вечер и тяжкий сон, с минутами избавления.
— Как дела, Константин Иванович? Как самочувствие?
Костя сел в постели, ответил с горечью:
— Какое мое самочувствие? Что мне чувствовать?
Женщина-врач глядела внимательно, и Костя вдруг понял, что нужно сказать ей правду. Ту правду, которую он обдумал и твердо знал.
— Высшая мера, — произнес он отчетливо. — Высшую меру прошу. Дайте мне смертельный укол.
Палата, ко всяким речам привыкшая, казалось, не слышала слов Кости.
— Да, высшую меру, — повторил он. — Потому что таких людей, как я… Нет, не людей… Я — не человек, я — погань. — Обвел рукой палату. — Это всем известно, спросите любого. Я ни одному человеку добра не принес. Мать родную забыл. Отец десять лет на кладбище, а я ни разу ему могилку не прибрал.
— Успокойтесь… Ничего… У всех бывают в жизни ошибки. Их надо исправлять… — врач поглядела на санитара. Тот ее понял.
У Кости Любарева голова стала ясной, а в сердце — полынь.
— Нет, нет… Отец — покойник, а мать — живая. Рядом живет, а я к ней месяцами не заходил. Дровишек нарубить, угля привезти. Да что мать… Дети родные от меня ничего доброго не видали. Лишь пьяный заявлюсь да выкобениваюсь. Дочь выросла, я к ней в тетрадку не заглянул, про школу не говоря. Из детского садика ни разу не взял. Ни ее, ни мальчонку. Теперь вспоминаю… — так явственно Костя помнил все, так четко видел далекие дни, что говорить о них было легко. — В кино просила с ней пойти. Еще маленькая. Папа, говорит, на этот фильм и взрослые ходят. Это она меня звала. С другими-то ходят отцы, вот и она захотела. А я… я… — слезы потекли по лицу. — Нет, нет… Никому на свете доброго не сделал. И потому прошу высшей меры — смертельный укол.
При этих словах слезы кончились, лицо просветлело, и улыбка заяснйлась на изможденном, в седой щетине лице.
— Высшая мера…
Увидев сестру со шприцем в руках, он послушно лег, пробормотал: «Принимаю… Спасибо…»
Больное тело его, душа — все просило покоя. И тихий ангел — добрый целитель немощных — повеял крылами, посылая сон — короткое избавленье от долгих часов недуга.
Явь пропадала: ни скорбных стен, ни решеток, ни больничной вони. Снова была весна, солнце, первая пахучая зелень, лужи…
Весна была ранняя, но тепла дождались не сразу. Снег пропал скоро, поля зачернели. По Дону прошел ледокол, торопя навигацию, и речные воды скоро очистились, засинели, поджидая мутную волну половодья.
Небольшой придонский поселок очнулся от зимней спячки. Детвора зашумела на улицах, начиная летние игры. В затишек дворов, на солнцепек, выбирались старые люди к вечным весенним заботам. Оплывшая земля огородов, черные кучи прошлогодней ботвы да огудины, голые деревья, парники, рассада — все просило забот.
Центральная улица поселка, асфальт, тротуары, навесы автобусных остановок, скамейки подле них — все помаленьку прихорашивалось, чинилось да чистилось, готовясь к долгому лету.
Один из кварталов центральной улицы был перекрыт, охраняли его знаки «Объезд», «Въезд запрещен», «Дорожные работы».
Но голубые «Жигули» с блестящей никелированной антенной и тонированными, светозащитными стеклами, притормозив, поехали прямо, лавируя между чадящими кучами горячего асфальта и тяжелыми катками.
Голубые «Жигули» и хозяина — Костю Любарева, бригадира местного рыболовецкого колхоза, знали в поселке все: шоферы самосвалов и водители катков, дорожные рабочие в оранжевых безрукавках и мастер участка.
— Привет! Привет! — здоровался Костя через опущенное стекло машины. — Крепче латайте! А то опять — на два дня…
— Мыкаться надо меньше, — отвечали ему. — Рыбу лови, а ты под ногами мешаешься.
— Щербы захотелось? Удочку бери да лови.
— Успеешь за тобой. Весь Дон сетями перепрудил.
— Для вас стараюсь, для народа.
Он хохотнул и прибавил скорость, оставляя позади асфальтовый чадный дух.
Поселок издавна жил и строился усадьбами свойскими: дома, флигеля стояли вдоль улицы за дощатыми заборами, среди огородов, садов, которые прежде были обширные, теперь урезались — выделялись места народу новому, молодому, их кирпичным хоромам, гаражам и прочему.
Конторы и жилье казенное — их было немного — стояли в центре поселка, вокруг площади с трибуной да памятником Ленину.
Голубые «Жигули» туда не доехали, свернув в улицу боковую, ведущую к складам и конторе поселковой торговли. Здесь всегда было суетно: грузовики, легковушки, шофера, экспедиторы, грузчики и прочий народ. Выйдя из машины, Костя по-свойски расхаживал по двору, с мужиками — курил, с бабами — заигрывал. Все его знали, потому что он родился и вырос в поселке, прожил здесь почти сорок лет и был на виду.
Рослый, жилистый, в джинсах и легкой заграничной куртке, с загорелым лицом, аккуратно подстриженный и причесанный на косой пробор, гладко выбритый и пахнущий одеколоном, рядом со здешним народом — шоферами да грузчиками — Костя Любарев, а попросту — Любарь, гляделся завидно. Он был не прижимист, как иные. И похмелка у него всегда в машине водилась, а на закуску ли, угощенье имелся копченый балык да вяленые шемая да рыбец. В общем — свой парень. И к нему все по-доброму относились.
Для бригады он взял два ящика сгущенного молока, тушенку, индийский чай. Для себя — пару хороших рубашек, туфли. Кое-что домой: польское печенье, конфеты, растворимый кофе. Напомнил о мебели:
— Когда привезете?
— В конце месяца, — ответили ему.
— Мягкая?
— Мягкая, мягкая.
— А то жена задолбала.
— Готовь место.
Он хотел уезжать, да вдруг вспомнил:
— Духи какие-нибудь, добрые. Французские есть?
— Но это уже не жене, — с ходу раскусили его.
Костя довольно посмеивался, забирая и пряча зеленую коробку.
Потом, уже в машину, подсел к нему старинный друг, в школе вместе учились. Когда-то был худенький, в волейбол хорошо играл, а в торговле — шоферил, возил большого начальника — разъелся поперек себя шире.