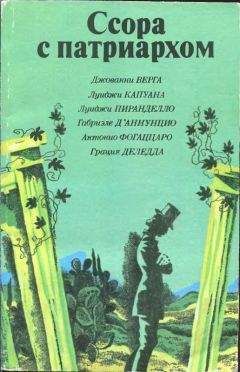— Иди, иди в церковь и приготовь причастие, — негромко сказала она ему и подтолкнула к двери.
И он вышел на улицу, но прежде чем отправиться в церковь, сбегал к своей матери и предупредил ее, чтобы она получше прибрала в доме, потому что к ним хочет зайти священник.
Мать священника вернулась в маленькую столовую, где ее Пауло все еще сидел за столом, читая газету.
Обычно он уходил в свою комнату. Однако сейчас он боялся вернуться туда. Он просматривал газету, но думал о другом. Он думал об умирающем старике охотнике, который сказал ему на исповеди, что избегал людей, потому что они «само зло». И люди в шутку прозвали его Царем, как иудеи Христа.
Но и признание старика мало интересовало Пауло. Он больше думал об Антиоко, о его матери и отце, у которых собирался спросить, хорошо ли они поступают предоставляя мальчику беспрепятственно следовать своим фантазиям, необдуманному решению стать священником. В сущности, он понимал, что и это его мало волнует. Единственное, что заботило его, это стремление уйти от самой главной мысли. И, увидев, что мать возвращается в столовую, он опустил голову, потому что ему показалось, будто она одна угадала, что тревожит его больше всего.
Он склонил голову, но сказал самому себе: нет, нет и нет.
Нет, он больше ни о чем не хотел спрашивать ее. Письмо было вручено. Что еще ему нужно знать?
Надгробный камень был положен на место. Ах как же он давил ему на затылок! Однако почему он еще чувствовал себя живым, будучи заживо погребенным под этим камнем?!
Мать убирала со стола, ставя посуду в шкаф, служивший вместо буфета.
В тишине слышны были щебетание птиц на скале и ритмичные удары каменотеса. Казалось, мир кончался тут и последним местом, где еще жили люди, была эта небольшая беленая комнатка с темной мебелью и выложенным старинными кирпичами полом, на котором зеленые и золотистые блики, падавшие сверху из оконца, походили на дрожащее отражение в воде и придавали помещению сходство с тюремной камерой, упрятанной в глубине какого-нибудь отдаленного замка.
Он выпил, как всегда, свой кофе, съел печенье. И теперь читал новости из далекого мира. Да, все было как обычно. Но мать предпочла бы, чтобы он поднялся в свою комнату и заперся там или же, раз уж остался тут, хотя бы снова спросил, кому она вручила письмо. Она прошла в кухню с чашкой в руке и с этой же чашкой вернулась к столу.
— Пауло, письмо я вручила ей самой. Она уже не спала. Была в саду.
— Хорошо… — проговорил он, не отрывая глаз от газеты.
Но мать не могла уйти, не могла не говорить. Что-то более сильное, чем ее воля, чем его воля, вынуждало ее к этому. Она сглотнула соленую слюну, появившуюся во рту, и посмотрела в чашку на японский пейзаж, потемневший от кофе.
— Она была в саду. Потому что она рано встает. Я пошла прямо к ней и отдала письмо. Никто не видел. Она взяла письмо и посмотрела на него. Потом взглянула на меня и не стала читать. Я сказала: «Ответа не нужно» — и хотела уйти, но она сказала: «Подождите». И вскрыла письмо, как бы давая понять, что это не секрет для меня. И побледнела как бумага. Потом сказала: «Идите с богом».
— Хватит, хватит, — приказал он, не поднимая глаз.
Но мать заметила, как дрогнули его ресницы и как побледнел он, став таким же белым, как Аньезе. На какое-то мгновение ей показалось, будто он вот-вот потеряет сознание, но потом она увидела, что кровь прихлынула к его лицу, и ей стало легче. Это были ужасные минуты, но их надо было пережить, выдержать. Она хотела было сказать: «Видишь, что ты наделал? Видишь, как плохо и тебе, и ей?» — но он откинул голову назад, как бы отгоняя дурную кровь, и, грозно посмотрев на нее, произнес:
— Довольно, хватит. Вы поняли — хватит! Я не желаю больше ничего слышать об этом. Иначе я сделаю то, что грозились сделать вчера вечером вы, — уйду.
Он резко поднялся, но направился не к себе в комнату, а снова вышел из дома. Мать прошла в кухню, и чашка дрожала у нее в руках. Она поставила ее на место и в растерянности прислонилась к стене. Ей казалось, что он ушел навсегда, а если и вернется, то это будет уже не ее Пауло, а несчастный человек, охваченный дурной страстью, человек, который способен зло смотреть на нее, словно пойманный вор, которого уличили в краже.
Он и в самом деле был похож на человека, бежавшего из дома, лишь бы не возвращаться в свою комнату, потому что ему казалось, что Аньезе тайно проникла туда и ждет его, бледная, с письмом в руках. Он бежал из дома, чтобы скрыться от самого себя. Но страсть гнала его еще сильнее, чем ветер минувшей ночью.
Он пересек луг, сам не зная зачем, и ему показалось, что он наткнулся на стену ее дома и сада, и, оттолкнувшись, повернул назад, дошел до площади, где на невысокой каменной ограде сидели старики, дети и нищие. Он перебросился с ними какими-то словами, не слушая, что они отвечают, потом пошел вниз по дороге, до самой тропинки, ведущей в долину, ничего не видя кругом — ни дороги, ни долины. Весь мир словно перевернулся в его сознании, обрушился на него, превратился в нагромождение камней, обломков, руин. И он смотрел на него сверху, как дети смотрят с горного обрыва в туманную даль.
И он возвратился к церкви. Улочки были пустынны. Над низкими каменными оградами домиков нависали ветви персиковых деревьев со спелыми плодами, и по светлому сентябрьскому небу проплывала мирная стайка белых облачков.
Из домов доносились шум ткацкого станка, плач грудного ребенка.
Сельский стражник, которому вменялось в обязанность охранять не только поля, но и порядок в селе, единственный представитель власти, одетый в полуформу полицейского — синие брюки с красными лампасами и в охотничью куртку из выцветшего вельвета, обходил улицы в сопровождении огромной собаки на поводке. Собака была черно-рыжей, с кроваво-красными глазами, в ней было что-то от волка и от льва, и все жители села, крестьяне из долины, пастухи и охотники с плоскогорья, дети и воры знали ее и боялись. Стражник не отпускал собаку от себя ни днем ни ночью, так как опасался, что ее отравят. Завидев священника, она зарычала, но по знаку хозяина умолкла, опустив голову.
Стражник остановился и по-военному отдал честь священнику. Потом с важностью произнес:
— Сегодня рано утром я осмотрел больного. Температура градусов сорок, пульс — сто два. По моему скромному мнению, у него воспаление почек. Внучка просила дать ему хинин, — у стражника хранились лекарства, и он позволял себе осматривать больных не только по долгу службы, отчего ему казалось, что он заменяет врача, который поднимался в село лишь два раза в неделю, — но я сказал: «Не спеши, женщина, по моему скромному мнению, здесь нужно слабительное, а не хинин». Женщина плакала, однако без слез. Пусть бог меня покарает, если я не прав. И она хотела, чтоб я тут же помчался за доктором. «Доктор придет завтра, в воскресенье, — сказал я ей, — а если тебе уж так не терпится, сама пошли кого-нибудь за ним. Больной способен оплатить визит врача, хоть раз перед смертью: он же за всю жизнь не истратил на лечение ни сольдо». Я правильно сказал?
Нахмурившись, он ждал от священника одобрения. Но тот смотрел на собаку, покорную воле хозяина, и думал: «Если б можно было вот так же на поводке держать свои чувства!»
— Ну да, — ответил он рассеянно, — врача можно подождать до утра. Но… больной в тяжелом состоянии.
— В таком случае, — настаивал стражник, не слишком скрывая некоторое недовольство, вызванное равнодушием священника, — пусть пошлет кого-нибудь за врачом. Больной в состоянии заплатить за это, он ведь не нищий. Но внучка не выполнила даже моего распоряжения, не захотела дать ему слабительное, которое я ему назначил и сам приготовил.
— Прежде всего надо было причастить его.
— Вы же сами учите меня, что больного можно причащать и не на голодный желудок.
— И все же, — возразил священник, теряя терпение, — старик не захотел принять слабительное. Он стискивал зубы, а они у него еще крепкие, и пускал в ход кулаки, как вполне здоровый человек.
— В таком случае, его внучка, по моему скромному мнению, не должна была позволять себе приказывать мне, стражнику, словно какому-то слуге, бежать за доктором. Ведь не о ране здесь идет речь и не о каком-то преступном увечье, требующем вмешательства врача на законном основании. У стражника достаточно других дел, которыми он обязан заниматься. Я сейчас должен спуститься вниз к речке, к самому броду: мне донесли, что какой-то умник заложил динамит в воду, чтобы глушить форель. Мое почтение.
Он еще раз по-военному отдал честь и удалился. Собака, как бы подражая хозяину, тоже подавила недовольство и, злая, пошла за ним, поджав хвост, но больше не рычала, только обернулась к священнику и посмотрела на него своими лютыми звериными глазами.
Пройдя еще немного, священник увидел на площади Антиоко, сидевшего на ограде в трепещущей тени вяза. Приготовив все, что нужно для отходного причастия, он ждал священника и, увидев его, побежал, опережая, в ризницу со стихарем в руках.