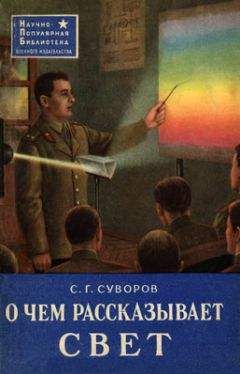– Мне тоже идти, Роза? - боясь повернуться, спросил Илья.
– Подойди сюда, - негромко позвала она. Он подошёл. Молча опустился на колени возле постели. Сухая, горячая рука легла ему на плечо.
– Вот, морэ, и всё.
– Роза…
– Ты, ради бога, молчи! У меня и так еле язык ворочается. Просто послушай меня.
– Я… слушаю.
– Хорошо. Попросить тебя хочу: Митьку не бросай. У него, конечно, своей родни полно, но… он в таборе жить уже не сможет. Не приучен.
Держи его при себе. Там, под матрасом, деньги мои лежат… немного, но всё-таки. Возьмёте потом.
– Хорошо.
– Запить не вздумай! - коротко велела она. - Кто тебя теперь на себе из кабака потащит?
– Роза! - не стерпев, взмолился он. Зажмурившись, поймал её ладони, уткнулся в них лицом. - Розка, что ж ты делаешь?! Как я без тебя?! Роза!
С трудом высвободив одну руку, она погладила его по голове.
– Сам знаешь как. Сделай так, как говорю: возвращайся на Москву. Там твоя семья. Там тебе жить.
– Ты же знаешь, я не могу… - прошептал Илья. - Она… Настя уже замужем…
– И что с того? Про детей своих ты забыл? Дети-то - твои, не того князя…
Не должен человек без семьи жить. Ни гаджо, ни цыган не должен. Это неправильно. Я так жила, потому что по-другому не могла. А ты можешь.
Ты хороший, Илья… Если б не ты, я бы… Ай, да что теперь… Жаль, что поздно я на тебя наткнулась. И весь ты целиком - Настькин.
Шёпот Розы оборвался, она тяжело закашлялась, её рука упала с плеча Ильи.
– Иди… Иди ко мне, морэ. Обними меня, что ли…
Илья подался к ней. Обняв худое, ставшее совсем маленьким тело, осторожно положил голову на грудь Розы. Сухая ладонь погладила его по лицу.
– Холодно… - вдруг сказала Роза. - Зачем плачешь, Илья? Что ты? Нельзя…
Он и сам знал, что нельзя, но остановиться уже не мог. И, спрятав лицо на груди Розы, взвыл в голос. Она не пыталась больше его утешить. Её руки вдруг беспокойно зашарили по одеялу.
– Холодно… Боже мой, как холодно… Это снег? Да? Это буран? Засыпает?
Илья вскочил. В сером свете всходящей за окном луны он увидел запрокинутое лицо Розы. Её глаза были полузакрыты, пересохшие губы чуть шевелились.
– Замерзаем, Пашка? Замерзаем? Я не буду спать, не бойся… Митька - здесь, я его согрею, не бойся… Ты обними меня… Мы вместе… Мы… Я ведь только тебя люблю, я всю жизнь… Ты не бойся, Симка тебя простит… Боже мой, холод какой… Обними меня… Поцелуй… Я не Симка, я Танька, скажи мне - "Танька"…
Завалило ведь уже… Темно… Я тебя не вижу… Паша! Хороший мой! Я тебя… Я…
Тишина. Стиснув зубы, Илья поднял голову. Он успел увидеть, как потрескавшиеся губы Розы сомкнулись в улыбке. Наверное, он всё-таки успел обнять её, этот сукин сын… Чёрные глаза затянулись мутной пленкой. Больше Роза не шевелилась. Илья поднялся с колен. Неловким движением закрыл ей глаза и, стукнувшись плечом о дверной косяк, вышел вон.
Над морем стояла луна. Двор был забит людьми, но Илья не видел никого.
Дойдя до середины двора, он повалился на колени, несколько раз ударил кулаками в ещё тёплую после дневной жары землю. Роза… Роза… В трактире, с бубном, выбивающая пятками тропаки на залитом вином столе… Верхом на лошади, визжащая, весёлая… Под палящим солнцем, на мокром, залепленном рыбьей чешуёй дне шаланды - сонная, лукавая, обнажённая, мокрый медный крест меж грудей, водоросли в волосах… Перед пьяной толпой, раскинувшая руки, гневная, тёмная, с оскаленными зубами… В таборе, у костра, юбка – парусом, бубен в поднятой руке… В полной росы утренней степи, на исходящей паром траве… Звезда над ночным полем, ветер, цикады, стук копыт…
Роза… За что, господи, за что?! Илья ничком упал на землю. Никто не решился подойти к нему, и столпившиеся во дворе люди молча и испуганно слушали его хриплый, протяжный крик, больше похожий на вой.
Четвёртый день Москва ждала снега. Стояли последние ноябрьские сумеречные дни, минул Матвеев день, промёрзшая земля вся покрылась ледяными трещинками, солнце за весь день не выглядывало ни разу, скрываясь за низкими облаками. Изредка в морозном воздухе пролетала, вертясь, одинокая снежинка, москвичи радостно задирали головы, но первый снег, которого так ждали все, не падал и не падал. "Вот тебе и Матвей… - ворчали извозчики, сдерживая скользящих на ледяных мостовых лошадей. - Где оттепеля-то положенные? Конец света грядет, воистину… Зимой снегу не дождёшься!" В церкви Успения Богородицы на Таганке почти не было людей. Заутреня давно кончилась, до вечерней службы было ещё несколько часов, и храм стоял пустым, гулким, освещённым мягкими огоньками свечей, выхватывающими из полутьмы скорбные лики Богоматери и святых. Старенький поп у алтаря тихо разговаривал с почтительно склонившимися молодыми служками; несколько старушек бесшумно сновали вдоль стен, убирая от икон потухшие огарки. В левом притворе, перед иконой Богородицы, сжимая в пальцах незажжённую свечу, стоял Гришка Смоляков. Уже полчаса он пробовал начать молиться, но после первых же слов "Богородице, дево, радуйся…" горло сжималось, слова знакомой с детства молитвы пропадали из памяти, а вместо лика Богородицы перед глазами вставало убитое, заплаканное лицо Иринки, с которым два часа назад она пришла в Большой дом.
Иринка пришла без мужа, без невесток, и одно это говорило, что произошло что-то из ряда вон. Так и оказалось. Испуганной Илоне и сёстрам стоило большого труда успокоить разрыдавшуюся прямо на пороге Иринку и, после отпаивания водой и долгих уговоров, добиться от неё объяснений.
Всхлипывая, сбиваясь и поминутно отпивая из кружки остывшего чая, Иринка рассказала о том, что её муж, Федька, собирается на днях уезжать из Москвы. У Фетиньи Андреевны умер брат в Туле, осталась большая семья из одних женщин, не знающих, что делать с конюшней и торговлей, и, по мнению Картошихи, они, как самые близкие родственники, должны были помочь. Ехать в Тулу вызвался Федька, давно не чаявший освободиться от ярма материнской опеки. О том, чтобы оставить жену с детьми в Москве, не было и речи. Даже то, что Иринка была на восьмом месяце беременности, не останавливало Федьку.
– Он говорит - ничего, не помрёшь, цыганка небось… - по бледному лицу Иринки бежали слёзы. - Собирайся, говорит, тебе же лучше, хозяйкой в доме будешь… Я - плакать, а он как замахнется… Я не хочу, не хочу, мама, милая, не хочу я туда ехать! Что я там буду делать? Чужие все… От вас, от хора куда мне?
Боже мой, господи, не хочу…
– Не плачь, Иришка… Не плачь, маленькая, бог милостив… - шептала растерянная Илона, сжимая мокрые от слёз пальцы дочери. - Не надо плакать, ты на сносях, повредить можешь, спаси бог… Отец, ну скажи ты ей!
Но Митро, неподвижно стоящий у окна, молчал. И лишь когда Иринка завыла в открытую на плече перепуганной младшей сестрёнки, повернул к женщинам потемневшее лицо.
– Я сам к Картошихе пойду, - мрачно сказал он. - Сам попрошу оставить тебя… хотя бы пока не родишь. Да что они - ума решились? На зиму глядя невесть куда с животом мою дочь тащить? Не вой, Ирка, сделаю я что-нибудь.
– Ох, молчи ты, Христа ради… - горько сказала Илона.
Митро бросил на неё короткий взгляд, снова отвернулся к окну. Всем было ясно: никакие разговоры не принесут результата. У Картошек уже всё было решено. Вскоре плакали все - Илона, Иринка, трое оказавшихся в доме её сестёр, Дашка, Настя, её невестки… Никто не заметил стоящего в дверях залы Гришку, который с минуту молча смотрел на худенькую, дрожащую от рыданий спину Иринки, а затем тихо, стараясь не стучать сапогами, вышел из дома.
Он не следил за дорогой и сам не знал, как оказался в Таганке. Со всех сторон его обступили низенькие деревянные домики, узкие горбатые улочки, небольшие пряничные церкви с оранжево светящимися окнами. Здесь жило много цыган; то и дело Гришку кто-то окликал, взмахивал рукой, скалился:
"А, Смоляков, здорово! Что делаешь здесь?" Но Гришке было не до разговоров с объяснениями, и он поспешил укрыться в церкви. Здесь было тихо, тепло, святые, казалось, поглядывали участливо. Гришка купил свечу, но забыл её запалить и так и стоял перед грустной Богородицей, глядя в её длинные, тёмные, похожие на Иринкины глаза и безмолвно спрашивая: что же делать теперь?
С того дождливого дня, когда Анютка сбежала с грузинским князем, прошло почти четыре месяца. Цыгане повозмущались, поохали, посплетничали и мало-помалу успокоились - тем более что покинутый муж ходил весёлым и на насмешки не злился, так что дразнить его не было никакого интереса. Сбежавшей супруге Гришка искренне желал счастья и с каждым днём думал о ней всё меньше. Гораздо более его огорчало то, что Иринка перестала приходить по воскресеньям в церковь. Гришка понимал: она ждёт ребёнка, ей тяжело выстаивать службу, но… Но уже невмоготу было не видеть этих тёмных грустных глаз, родинки, тонких пальцев, держащих свечу. Пару раз он заглядывал к Картошкам, выдумав какое-то дело, - благо было общее занятие на Конном рынке, - но, как назло, Иринка не выходила. В Большом доме она тоже не появлялась. И вот теперь как гром середь ясного неба – уезжает в Тулу. С этим дурнем Федькой, который её там совсем замучает.