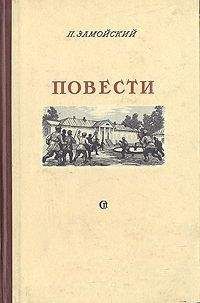— Ишь, нажрался Апостол на чужбинку!
В избе шум, гомон, крик. Не поймешь, кто с кем говорит, кто кому отвечает. Пастух тоже пьян. Ему поднесли уже не одну чашку, и он, молчаливый и несколько угрюмый человек, теперь тоже много говорит, смеется.
Я подошел к нему. Мне хотелось поговорить с ним, но он разговаривал с Вороном. Черный и высокий, с большим горбатым носом, Ворон гудел:
— Ты не сердись на меня. Я это так, а я люблю тебя. Главное дело — тебе хороших подпасков нанять. Самому бегать за скотиной — лета не те, ноги не выдержат, а вот нанять тебе каких‑нибудь шустрых, обучить их и пущай…
— Знамо, — вмешался и я, подражая Ворону. — Не бойся, найдешь хороших подпасков, дядя Федор, а сам сиди. А подпаски тебя будут слушаться. Будут они тебя слушаться, как отца родного! — крикнул я в самое ухо старику. — Ты не горюй. Ты, дядя Федор, выпил, я ведь тоже выпил. Я вот, дядя Федор, любую корову догоню, жеребенка тоже. Вот. А нынешней весной я училище кончу. Все экзамены сдам. Вот мы какие с тобой, дядя Федор! — болтал я.
Ворон схватил меня за плечо, повернул к себе лицом.
— Тебе сколько годов?
— Мне уже тринадцатый идет.
— Вот тебе один подпасок и есть, — указал он дяде Федору на меня. — Чего зря мальчишке бегать! Жрать‑то дома все равно нечего.
— Правильно! — подхватил кто‑то рядом.
— Верно! — ответили с другой стороны.
И вдруг все принялись расхваливать меня. Говорили, что я и послушный, и шустрый, — словом, самый подходящий человек в подпаски. А Ворон уже кричал старосте:
— Подпаска мы тут нанимаем дяде Федору!
— Кого?
— А вот сынишку Ваньки Наземова. Гляди, какой парень! Зря по улице бегает. Мальчишку пора к делу пристроить.
— Что ж, наймем. Как, дядя Федор?
— Отца надо спросить, — посоветовал кто‑то.
И Ворон заорал:
— Дядя Ива–а-ан!
— Тут их много, Иванов. Какого вам?
— Наземова! Наземова!
— Тебя, дядя Иван, зовут.
Сквозь густую толпу мужиков протолкали моего отца. Вид у него был испуганный. Почему это весь сход вдруг, чего сроду не случалось, обратил на него внимание? Когда он очутился около нас, Ворон, указывая ему на меня, спросил:
— Наймешь своего наследника в подпаски?
Отец робко улыбнулся, поглядел на меня и ответил:
— А что ж?
— Вот и по рукам! — обрадовался Ворон.
Но я испугался и заплетающимся языком крикнул:
— Погодите нанимать! Мамку надо спросить.
— Чего ее спрашивать! Раз отец согласен, мать в стороне.
— Ну, она у нас не такая! — крикнул я. — Она у нас что захочет, то и сделает!
— А ты‑то согласен?
— Мне что! Мне все равно. Делать нам всем нечего. Земли на нас нет. На девять едоков всего полторы души. Все равно по миру придется идти, а это я себе на хлеб заработаю и одежу с обувкой справлю.
— Правильно у мальчишки голова привинчена. Рассуждает, как земский начальник. И нечего мать спрашивать.
— Нет, без мамки нельзя. Если она узнает, мне достанется и тятьке выстилку даст. Она сердитая.
— На сердитых воду возят.
— На нашей мамке не повезешь! Бочку опрокинет.
Боясь, как бы меня в самом деле не наняли без мамки, я толкнул отца и сказал:
— Пойдем домой.
— Пойдем, сынок.
— Ты куда же это? — остановил меня Ворон. — Что же в подпаски?
— Мамка у нас захворала, — соврал я Ворону. — Зубы у нее… — И поскорее стал проталкиваться к двери.
Мы вышли на улицу. Отец — сзади, а я, не разбирая дороги, устремился передом. Ветер бил в спину, поддувал под полушубок и гнал вперед еще быстрее. Отец что‑то кричал мне, а я, не отвечая ему, то вяз в сугробах, то вновь выходил на дорогу и все прибавлял шагу. Мороз был так силен, ветер так лют, что все тепло от выпитой водки быстро испарилось. Я уже бежал. Сквозь снежный ураган мерцали огоньки в избах. Но вот я начал уставать, ноги подкашивались. Вскоре я совсем завяз в сугробе. И тогда закричал отцу:
— Тятька, вытаскивай!
Отец подхватил меня под плечи, вытащил, взял за руку и повел за собой.
В избе горел огонь. Спеша обрадовать мать, я устремился вперед, изо всей силы застучал в дверь, и когда братишка Филька открыл мне, я, вбежав в избу, крикнул:
— Мамка, я не дал тятьке всю выглохтить! Вот это тебе! Пей, мамка!
Она обрадовалась, взяла водку. Потом глянула на меня, вытаращила глаза и, чуть не выронив посуду, закричала.
— Пес ты эдакий, беги в сени, бери снег, оттирай нос! Ведь он у тебя белый.
Вечером, когда я сидел за столом и дочитывал книгу, то и дело поглядывая на мать — как бы она эту книгу у меня не вырвала и не выбросила, — к нам в избу вошел дядя Федор. Он поздоровался сначала с матерью, потом с отцом:
— Здорово, сваха Арина. И ты, Ваня, здорово!
— Поди‑ка, — ответил отец. — Проходи, садись. Аль куда ходил?
— К Ермошке заглядывал. Хотел сына его Саньку в подпаски нанять.
— Вышло чего?
— Разь уломаешь.
Дядя Федор прошел к столу, сел рядом со мной и, похлопав меня по спине, взглянул на книгу.
— Какая она у тебя толстая, — заметил он. — Ужель всю прочитал?
— Немножко еще осталось, — смутился я.
— Ну, читай, читай. — Дядя Федор опять похлопал меня по спине.
Мать, стоявшая возле печки, сердито прищурила на меня глаза, крутнула головой, но дяде Федору сказала мягко:
— Балует он у нас. Книгами все балует!
— Это ничего. Пущай. Может, глядишь, и пригодится под старость.
Мать отмахнулась, сморщила и без того морщинистое лицо:
— Где уж пригодится! Не наше дело в книжках торчать. Это — поповым детям аль урядниковым, тем только и делов. У них забот о хлебе нет. Отец набаловал его. Сам‑то мрет на книжках и его приучил.
— Да, Ваня начитанный, — не то завидуя, не, то осуждая, проговорил дядя Федор.
Отец, мельком бросив взгляд на мать, виновато ухмыльнулся.
Мать, больше всего на свете ненавидевшая книги, которые она считала главными виновниками нашей нищеты, продолжала:
— Что толку‑то от этих книг? Вот ежели бы хлеба давали за каждую — это так. Прочитал одну, тебе за нее пуд, прочитал другую — тоже. А то — пес ее знает. Прямо глаза мои не глядели бы.
Отец вынул лубочную табакерку, постукал по дну ногтем большого пальца, открыл и,,улыбаясь, предложил дяде Федору:
— Нюхнем, что ль?
— От нечего делать — давай.
Подошла мать — она тоже нюхала. — и взяла большую щепоть. Все трое со свистом принялись втягивать в себя табак. Дядя Федор начал громко чихать, каждый раз вскрикивая: «Эх, ты!», а отец торопливо повторял за ним: «Дай‑то бог!» После этого они громко смеялись.
Но больше всего смеялись мы, ребятишки, вся наша братва, или, как говорила мать, «содом». Смеялись те, что сидели на кутнике, и те, которые стояли возле печки, и те, что сидели за столом. Смеялись где‑то на печке, за кожухом трубы. Как прорва на всех напала! От такого хохота даже девчонка в зыбце проснулась. Никогда наша старушка изба не оглашалась таким задорисгым смехом. Чаще всего в ее прогнутых стенах слышался плач, визг ребят и ругань отца с матерью.
Когда большие перестали смеяться, Филька, высунувшись из‑за кожуха печи, подражая дяде Федору, начал чихать и вскрикивать: «Эх, ты!», а Васька весело кричал ему: «Дай бог!»
Они озоровали до тех пор, пока мать на них не прикрикнула:
— Будет ералашиться! Девчонка орет! — Обратившись ко мне, кивнула на зыбку: — Брось книжку! Качай девчонку! Погляди, есть у нее соска во рту аль выпала.
Я захлопнул книгу, нехотя подошел к зыбке, сунул девочке соску в рот, потом зацепил ногой веревку и принялся укачивать ребенка.
— Стало быть, к Ермбшке, говоришь, ходил? — снова спросил отец дядю Федора.
— Думал, толк какой получится, а он как заладил свое, так и шабаш. Да и мальчишка‑то у него незавидный. Пузатый какой‑то, сонный, кривоногий. Куда мне его!
Пастух помолчал, посмотрел на мать, обвел нас всех теплым взглядом, потом, обратившись к отцу, громко, словно решившись на что‑то важное, заявил:
— Я к тебе, сват, неспроста. Вот и сама сваха Арина тут. Дело‑то вам подходящее, ребятишек у вас вон сколько. Зачем им попусту бегать? Как ты, сваха Арина? Люди мы как будто немножко свои, обиды друг от дружки никогда не было. Я и говорю: наняли бы вы мальчишку‑то. Глядишь — и в дом прибыток, и прокормится.
Я взглянул на братишек и увидел, как все они, так же как и я, сразу насторожились. Никто из них не знал, на кого намекал дядя Федор, кого наметил себе в подпаски, никто догадаться не мог, кто в это лето должен ходить с кнутом и дубинкой за стадом, кому переносить и дождь, и бурю, и отчаянную жару. Вижу, как завозились мои братья на печке, зашебуршились на кутнике. По лицам их, испуганным и тревожным, заметно было, что решительно никому из них нет охоты быть подпаском. Ведь это ж последнее дело!