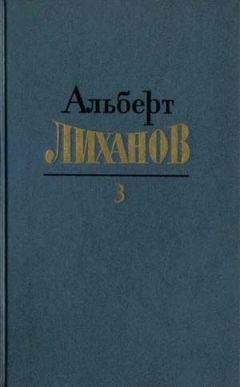А перед каждым уроком чистописания, будто споря со своим неофициальным мнением, повторяла на разный лад одну и ту же мысль:
— Вы должны выработать красивый, каллиграфический почерк. Вас должны понимать все, кому вы пишите, — друзья, родные или служащие, к которым обращаетесь. Вы учитесь писать не для себя, а для других!
И еще она волновалась, чтобы мы умели складывать мысли.
— Буквы — в слова! Слова — в мысли! Учитесь думать предложениями! А не междометиями. А то ведь спросишь человека, а он тебе «а — а», «бе — е». Словно овечка. Скажи прямо: «Не знаю». Помните: словами и мыслями! Мыслями и словами!
* * *
Еще она научила нас разбирать слова на буквы и строить из них новые слова — но в ограниченном пространстве.
Сидишь ты, например, в зубной поликлинике — ох, эти ужасные и обязательные пытки, и почему непременно учительницам это поручается делать, а не мамам и бабушкам, ведь дома-то всегда можно договориться, чего-нибудь сочинить, зареветь, наконец, чтобы отстали, или сделать вид, что ревешь: пожалеют небось, а ведь перед учительницей да и всем классом в придачу никак не заревешь! Ох ты, а может, эго она тогда нарочно придумала, чтобы нас отвлечь?
Вот сидишь в поликлинике, очередь — целый класс, тридцать человек, а перед нами, может, еще подкласса из соседней школы, а на кабинете вывеска: «Зубной врач». Вот и сиди, составляй из этих букв новые слова. Много ли насочиняешь и каких?
Зуб. Рвач! Тебя знобить начинает. Рвач ведь, пожалуй, это врач, который зубы рвет! Лучше уж на вывеске сосредоточиться. Что там выходит? «Ой» — выходит! Пусть это и междометие. Опять про зубы, надо же! Ну, еще «ной». Ной, не ной, а попал сюда, сиди, трясись, передвигайся со стула на стул ближе к этой белой двери, за которой жужжит бормашина да бренчат железом о железо страшные зубные щипцы.
Из слов «зубной врач», если использовать оба слова сразу, получается еще кое-что. Например, бой. Буза. Зоб. Убой. Зубач, что это такое, правда, неизвестно. Зной. Брачнуй… Как это? Чарной… Какой это такой?
До сих пор отлично помню этот довольно просторный зал на втором этаже старой деревянной поликлиники — белые двери кабинетов выходят в него, под ногами желтые крашеные половицы поблескивают чистотой, длинные ряды стульев вдоль стен и подле окон, череда небогато одетых мальчишек и девочек, а среди нас наша старушка в местами дырчатом пуховом платке, и к ней из длинного ряда то один, то другая подходят детишки со своими словами, и она, совершенно серьезная, объясняет громким шёпотом, что «чарнуй» и «брачнуй» — таких слов нет, есть «брачный», но нам до этого пока еще рано, и всячески поощряет всякое вновь изобретенное слово, попутно объясняя, что Ной — это не только нытье, но еще и библейский герой, который собрал перед великим потопом каждой твари по паре, сделал огромный такой корабль по имени ковчег и, когда вода залила всю землю, спас всю свою семью и всех самых разнообразных животных.
— И слонов? — удивлялся мой дружбан и сосед по парте Вовка Крошкин.
— И слонов! — отвечала Анна Николаевна.
— Это какой же корабль-то надо? — поражался Вовка, поражая и других.
— Большой! — отвечала Анна Николаевна.
— И муравьишек? — спрашивала Нинка Прав-дина.
— И муравьишек! — вздыхала учительница.
— А как же их слоны-то не затоптали? — удивлялся кто-нибудь.
— Ну, — отвечала Анна Николаевна, — наверное, понимали, что надо всем спастись, и друг друга жалели.
— А как же слон пожалеет муравья, если он даже его не заметит? — не верил, например, Мешков, но учительница на то учительницей называлась, чтобы наши глупости окоротить, а нас образумить.
— Раз муравьишки живут на белом свете, значит, тот слон их заметил. И пожалел.
— Умный слон! — соглашался Вовка Крошкин.
— Не то что ты, — хихикала Нинка. И тут уж необидно смеялись все, включая самого Вовку, и что-то такое витало между нами доброе, славное, дружелюбное, и мы отчетливо ощущали, что центр этого дружелюбия — наша укутанная в платок Анна Николаевна, которая ведь вот выдумана же разборку и собирание новых слов прямо накануне мучительного призыва в зубное кресло. Изобрела этакое новое лекарство от страха. Как говорят врачи, анестезию.
По крайней мере, когда дошла моя очередь и я, с замирающим сердцем, не видя лиц врачихи и медсестры, уселся под бормашину, то отчаянным усилием воли постарался не слышать и не видеть ничего, кроме начертанных в моем почерневшем сознании красных букв — зубной врач. Со страшной скоростью я перегонял буквы из одного места в другое. И все-таки одно выскочило!
Явно под влиянием обстановки я его выдумал. И обрадовался, вот дурачок! Я едва смог дотерпеть, пока меня выпустят из кресла, над которым нависли колесики и блестящие углы, чтобы выскочить, торопливо поблагодарив моих пытателей, спешным шагом подойти к Анне Николаевне и сказать ей сквозь еще неутихшую боль:
— Вой!
Что еще придет в голову под терзающий вой бормашины?
* * *
Грешным делом, я подумывал, что нашей Анне Николаевне помогало тяжелое время, в которое мы жили. Война ведь тоже может помогать: не надо рассказывать детям, как, например, нынешним, что такое голодуха. Или что такое беда. Они и сами хорошенько это знали, а если не знали, то догадывались, опасались, старались уберечься, да разве убережешься от такого, что досталось пусть только даже нашему классу.
Нет уж, война учительнице помочь не могла. Ведь весь смысл ее стараний как раз против горя — за радость, против голода — за улыбки и против страха — за спокойствие.
Чего ни возьми, какое дело, даже самое неприятное, где у тебя нет побед, ну хоть бы ошибками пестрящая тетрадь по арифметике, — но и ее, эту загадочную науку, где решение никак не сходится с ответом в учебнике, нельзя заподозрить в зле, в беде, которую она тебе готовит.
А родная речь!
Не знаю, как теперь, а в нашу пору мы много стихов учили наизусть, и Анна Николаевна ухитрялась всех обязательно спросить — это тридцать-то учеников! — и если ты не выучил к заданному одно, выучи за день позже, а нет — так и еще позже — до полного знания, и все мы, полный класс, сперва узнавали, потом учились понимать, затем — любить и в конце концов на всю, до седых волос, жизнь помнить что-нибудь бессмертное, великолепное, восхитительное, родом из третьего класса, вроде «Грозы» Тютчева:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом!
Грохочет гром, а не снаряд ведь. И, пожалуй, нет стихов, которые воспевали грохот снарядов. А грохот грома — пожалуйста.
С годами чистое детское сознание накапливало в нашей памяти немало стихотворений, уж десятка полтора-два мы точно знали к окончанию начальной школы. И никак не выходило, что война помогла Анне Николаевне.
Но она войну использовала, это точно. «Нет тюхой погоды, есть плохо подобранная одежда», — гласит английская поговорка, а учительница наша, похоже, перелицовывала английское правило на русский лад. Войне не сделаешь легче, она не может стать доброй, но время можно, оказывается, приспособить, как подобрать одежду, и сделать мир полегче, особенно если он касается детей, которые не знают, как бывает иначе.
Ну, например, каждое зимнее утро Анна Николаевна ставила для нас необыкновенный спектакль, в котором все мы охотно участвовали. Хорошие школьные здания, где много классов и широкие коридоры, город отдал под госпитали, зато наша бывшая церковно-приходская «началка», как презрительно обзывали ее пацаны из средних школ, теснотой своей напоминала перегруженный вагон, и уроки начинались в восемь утра, и потому учительницам нашим бедным требовалось переучить в день три детские смены.
Городские заводы и фабрики, мы это знали от Анны Николаевны, точили снаряды, делали танки, шили овчинные шубы для офицеров и сапоги для солдат, и им требовалось электричество, и это следовало понимать. Поэтому зимние уроки наши начинались при свете свечей и коптилок.
На учительском столе стояла керосиновая лампа Анны Николаевны, а на каждой парте хотя бы одна коптилка или свечка, однако свечки — дорогое удовольствие, и быстро они прогорали, а в коптилку только знай добавляй керосину.
Керосин! Драгоценное русское богатство в пору войн, разрух и прочих всяких бедствий! Долго еще после войны работали в городе нашем магазинчики, всенепременно кирпичные, сверху облупленные, грязноватые, а внутри вонючие, где усталые, в черных халатах, пропахшие пахучим товаром, который отпускали, и оттого еще и угрюмые женщины неопределенных годов отпускали керосин народу.
В войну — именно так: не торговали, а отпускали, потому что деньги, которые платились за керосин, как бы не имели значения, тем более эти бумажки, прошедшие керосиновую лавку, а оттого и провонявшие, наравне с женщинами и стенами этих лавочек. Деньги тут внезапно утрачивали свою надменность и чистоту, окорачивали свой вздорный норов, сникали и увядали, превращаясь в нечто подсобное, хоть и обязательное, но уж никак не в первостепенное. Первостепенной была его величество карточка на керосин, без которой не светит лампа на столе или под потолком, не фурчит керосинка, где булькает, вздымается или же просто шкварчит спасительная жизнь в виде пустых, но все же щец, заварихи, а то и веселой, румяной картошицы на рыбьем жире, доставшемся по счастливому случаю.