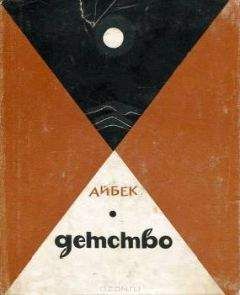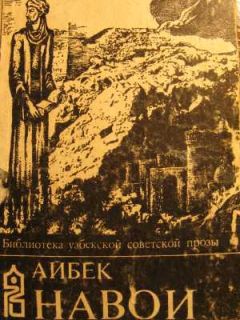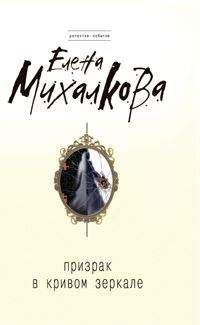Дед приставляет палку к стене, улыбается:
— Что, пригрелись на солнышке?
— А, заходи, заходи, а то я сижу тут, скучаю. В доме — никого. Мир-Махмуд за городом. С тех пор как я лишился покойной старухи, положение мое вот такое — только и Знаю, — сижу, торчу, как одинокий кол в поле, — говорит Мир-Ахмад. Потом подвигается, освобождая место деду на старенькой подстилке.
Старик почти всю свою жизнь был солдатом-воином. Его крупное массивное тело, огромный рост, все еще сохранявший остроту, ястребиный взгляд, говорили о том, что в молодости он был отважным, богатырского склада человеком. Служа солдатом, он довольно постранствовал по белому свету — побывал и в Ферганской долине, и в степях, вокруг Чимкента, Туркестана, Сайрама.
На полуразвалившейся террасе ветхой древней мазанки двое стариков — давних друзей — начинают обычный нескончаемо-долгий разговор. А я тотчас подхожу к огромному, с ишака, черно-пегому цепному кобелю, который дремлет на солнце перед террасой. Кобель, лениво приоткрыв глаза, глухо рычит. Я испуганно отскакиваю шага на два. Потом снова, уже осторожно, приближаюсь к нему. Опускаюсь на корточки, поддразниваю, протягиваю руку: «На, на, на!» Пес молчит, оскалив зубы, кусает кончик своего хвоста, пытается поймать надоедливую муху: подняв лапу, чешет за ухом. Я начинаю приставать смелее, пес внезапно рявкает гулким утробным басом. Испуганный, я отскакиваю снова.
— Эй, не трогай, укусит! — кричит дед и подзывает меня к себе.
Старики продолжают рассуждать о чем-то. Я с минуту сижу под боком у деда, потом, соскучившись, опять убегаю с террасы.
По двору бродила старая, подслеповатая курица, единственная у хозяина. Не знаю — неслась она, нет ли, но это была тощая, облезлая и смирная-смирная курица. Я начинаю гоняться за нею, швыряю в нее комьями земли.
— Перестань, не трогай! Нехорошо так! — опять кричит на меня дед.
Я проскальзываю мимо стариков в дом. Полутемная комната кажется совсем пустой. В нише — какой-то старый сундук, в углу — тяжелый старинный кувшин с отбитым краем. На полу, поверх обрывка пыльной кошмы, грязное одеяло да сшитая из лоскутов подушка. На деревянном колышке, вбитом в стену, висит замусоленный чапан. Напротив двери, почти у самого потолка — жердь, на ней — поношенный ватный халат. В нише для посуды несколько глиняных пиал, две-три тяжелых глиняных чашки, с полдесятка грубо выдолбленных самодельных деревянных ложек. — Я обшариваю каждый угол комнаты, каждую полку, нишу, вдруг вижу большую старинную саблю в обшарпанных ножнах, подвешенную под потолком, и у меня вздрагивает сердце. Я подбегаю к низенькой резной дверке, пытаюсь подтянуться. Выхожу из себя, кричу нетерпеливо:
— Дедушка, достаньте саблю!
Старый Мир-Ахмад сердито оглядывается, но тотчас смягчается. Покашливая, говорит ласково, с улыбкой:
— Не надо шуметь, сынок. Сабля подвешена к потолку, так просто ее не достать. — И задумывается. — Да, было время — здорово рубились мы. Боевых коней на дыбы поднимали и разили саблями, а теперь и сабля-то, как я, старая стала… Эх молодость, молодость! Прошла-пролетела, падучей звездой промелькнула и скрылась.
— Дедушка, дай мне хоть разок подержать, — уже со слезами прошу я.
Тут вмешивается дед. Обманом, посулами он подзывает меня и усаживает рядом.
— Садись, сынок, садись. Что такое сабля? Время сабельных схваток прошло. Теперь учиться надо, мой мальчик. Чтоб грамотеем стать, когда подрастешь! — говорит он, похлопывая меня по спине, и тут же обращается к приятелю: — А ну, начинай, друг. Расскажи, как в Фергане скинули с трона Мадали-хана. Да как следует рассказывай, пусть Мусабай послушает.
— Что ж, если так, слушай, малыш, — говорит старик, и откашлявшись, начинает свой рассказ.
Живым родником льются воспоминания старика. Диковинные события, увлекательные, как сон, необычные приключения следуют одно за другим. Сражения в Фергане, газават в Бухаре, разграбление Коканда, Хорезма…
Я сижу притихший, весь превратившись в слух. А старик все говорит и говорит, кажется, его рассказам не будет конца. Я до сих пор, хоть и смутно, помню многие из них.
— Да, прошла-пролетела жизнь. Увы, недолговечен этот бренный мир! — говорит старик. Кашлянув, он задумывается надолго, потом вздыхает: —Говорят, кто сидит, подобен циновке, а кто движется, подобен реке. Бурной рекой был я когда-то и вот, сами видите, уподобился циновке.
— Что поделаешь, друг, — говорит дед, пальцами расчесывая бороду. — Зато мы избавились от тиранства ханов, беков, от грабежа и разорения.
Старики переходят к шуткам-прибауткам, болтают досыта. Я и шутки их люблю слушать.
Когда время приближается к полдню, мы с дедом, не торопясь, отправляемся домой.
* * *
На террасе, у разостланной на полу скатерти, сидит бабушка и наш зять с Лабзака, муж моей младшей тетки по отцу. (Он был женат на старшей, но когда та умерла, за него выдали младшую).
На скатерти, ближе к гостю, поднос, на подносе — разломанная на куски лепешка и сладости — все как положено быть.
Бурно кипит самовар. У самовара мать разливает чай. Я приткнулся рядом, сел на пятки, поглядываю то на поднос, то на гостя.
Зять — длинный, тощий, болезненного вида человек лет за пятьдесят, со сморщенным старушечьим лицом, с пучками нависших на глаза бровей. На нем легкий, без подкладки, застиранный халат, на ногах порыжевшие от времени рваные ичиги, на голове намотанная как попало замусоленная чалма из грубой ткани. Да и весь он выглядел каким-то неопрятным и заморенным, потому, наверное, что имел большую семью, жил бедно и работал на крупорушке, а рушить просо — дело трудное и грязное.
Я молча смотрю на гостя. Вижу, как быстро, челноком двигается кадык на его тонкой жилистой шее, слышу громкие, похожие на икоту, звуки при каждом глотке чая, хруст сахара на зубах. Невольно кошу глаза на поднос.
С улицы входит дед. Он здоровается с гостем, расспрашивает его о делах. Зять с первых же слов начинает жаловаться на нужду, на то, как тяжело одному управляться с крупорушкой. Я слушаю вполуха. Теперь все внимание мое привлекают сладости.
С приходом деда я смелею. Незаметно передвигаюсь на коленках ближе к скатерти, трогаю поднос. Даже пробую пощелкать пальцем по краю, хотя протянуть руку к сладостям не решаюсь, боюсь бабушки. Но бабушка уже заметила мои уловки. Она толкает меня под бок:
— Чего ты егозишь? Сиди смирно!
— Да я так… парварду пересчитываю в уме, — бормочу я не очень внятно.
Дед громко смеется.
— Ха, вывернулся! — И показывает на парварду: — Возьми, возьми, проказник.
Я протягиваю руку к подносу, но бабушка опережает меня, сует мне кусок сахару, какой поменьше, и обломок завитка парварды.
— А теперь уходи отсюда, отправляйся на улицу! — говорит она сердито. — Дивлюсь, как у тебя жар не поднялся, ешь одни сладости!
— Да, сколько дне?) уже ничего не дзете, ключ от сундука прячете. Скупая вы, как камень! — говорю я, на всякий случаи отступая подальше.
Мать хмурит брови, молча кивает мне в сторону калитки. Я поворачиваюсь и убегаю на улицу.
Теплый майский вечер… Босой, в новой ситцевой рубашке и в старенькой тюбетейке, я бегаю по улице. Здесь кишит тьма ребятишек разных возрастов — больших и малышей. Все мы заняты играми. Игр всяких тоже много: те, кто постарше, играют в ашички, в чижика, мы — малыши — гарцуем верхом на таловых прутьях, скачем без устали, поднимая на улице клубы пыли. Я стараюсь не отстать от товарищей в украшении своего коня-прутика, обвешиваю его всякими висюльками, тряпицами. А попытается тронуть кто из ребят, без всякого страха бросаюсь в драку.
Вдруг, совсем неожиданно, на могучем гнедом иноходце подъезжает отец. Я крепко прижимаюсь к нему, как только он сходит с лошади.
— Здравствуй, сын! — говорит отец, обнимая меня одной рукой.
Ведя в поводу коня, он идет во двор, снимает хурджумы. Сдержанно здоровается с бабушкой, дедушкой, обрадованными встречей, усаживается на террасе. Мать приветствует его издали и принимается хлопотать у самовара. Тотчас откуда-то появляются сестренка Кумры с братом Иса Мухаммадом.
Отец сидит хмурый. Не проронив слова, молча закладывает за губу щепоть насвая. Я тоже притих, словно вязкого воску закусил, сижу, приткнувшись к деду.
— Что случилось? Рассказывай, как твои дела? — спрашивает дед, первым нарушая тягостное молчание.
Отец мой, Таш Мухаммад, высокого роста, светлокожий человек с черной бородой и усами. Деду он отвечает сразу. Долго хмурится молча, потом выплевывает насвай и только тогда после этого бросает коротко и резко:
— С делами худо. Три дня назад лавку ограбили воры. Я наскоро распродал остатки товара и уехал из Хумсана…
Все притихли. После долгого молчания дед вдруг взрывается, запинаясь от гнева, говорит: