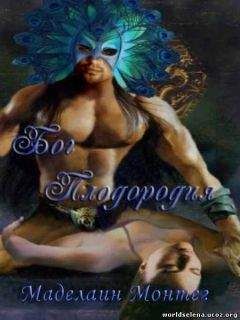А может, просто поцелует. И это будет самым счастливым мгновением — до замирания сердца, почти до остановки; он всегда задыхался, когда они целовались.
Вот с матерью, Сучковой, труднее… Хуже… Учитель? Сто рублей в месяц, и так всю первую половину жизни и чуточку больше во вторую. Для чего учился? Если б стать зубным врачом, как Богма! Она постучит себя крючковатым пальцем по голове, выложит какую-нибудь свою мудрость, вроде этой:
— Или жизнь грызи, иль лежи в грязи.
Ночью может прийти в его узенькую комнату и пожалеть. Мать всегда приходила жалеть его ночью, будто стеснялась сердобольности. Посидит на табуретке у кровати и спросит хмуро:
— Чего ж ты испугался, сынок?
Он не ответит, и она прибавит:
— Глупо ро́жено — не научишь!
С малых лет она учила его ничего не бояться, никогда не отступать. Если приходил с улицы в крови, она еще ему добавляла и велела:
— Бей сам. бей! Баптист сопливый! Безрукий!
Руки у него были крепкие, кулаки быстро наливались тяжестью; но он еще ни разу никого не бил ими, не «двигал» по лицу. Смысл брезгливой клички («Баптист!») долго оставался для него неразгаданным, а теперь он только ухмылялся: если бы война, пошел бы на передовую, как старший брат Петр, и показал бы, какой он баптист. Узнали бы! Но он никогда раньше не пускал в ход кулаков, потому что они у него были сильные, способные свалить с ног кого угодно. И верилось, что эти руки заработают, сколько надо, без помидорных грядок. Уедет подальше отсюда и будет писать письма старикам не в Нижнюю слободку, которой скоро не станет, дело месяцев, а по городскому адресу, и заполнять бланки денежных переводов на имя матери…
Так думалось, да не так вышло.
В тяжелых, крепких руках его не было ни рубля, когда потребовалось спасать Анку или просто гнаться за ней. Ну что ж… Ну что ж! Дело он придумает такое, что все ахнут! Резвое, доходное… Раз, два!
Раззудись, плечо.
Размахнись, рука!
Это осталось от тех пор, от первых дней после отъезда Анки, когда он воображал, как рыжий барабанщик с нежным именем Стасик водит ее по Воронежу и показывает… Что она там могла увидеть? Алеша вспоминал все, что знал о Воронеже от географички, и снова рылся в школьном учебнике.
В Воронеже Петр I начал строительство русского флота, поднимал под небо мачты с парусами… То место так называется и сейчас — Петровская слобода. Да, когда-то всякая слобода была пристанищем мастеровых людей, которых чистая городская публика жить поблизости не пускала, вот они и гнездились на окраинах. Так и возникали слободки при богатых городах.
В их, безвестной миру Нижней слободке прежде тоже обитал рабочий народ, ткачи… Времена меняются, менялись и люди. Население…
В одном сквере Воронежа есть памятник Петру-царю и строителям кораблей… В другом — памятник Кольцову, поэту крестьянской удали и печали… Раззудись, плечо! Размахнись…
Размахнемся! Но для начала надо было раздобыть хоть немного деньжат, обзавестись… Кто даст ему денег?
Иногда, среди ночи, Алеша чувствовал себя в космической пустоте, из которой не выбраться. В слободке все бедные, кого ни спроси, денег ни у кого не было и нет. И дома ветхие, нечиненые… Раньше еще следили, а теперь зачем? Разнесут в прах и даже метлой не подметут, блестящие скребки бульдозеров сгребут мусор в кучи, вывезут на свалку — и вся музыка!
Нет, домов в слободке уже не поддерживали, вот только заборы и латали накрепко, по привычке, чтобы посторонние не ломились во двор ни руками, ни ногами, ни глазами…
В то утро Алеша вскочил пораньше, спрыгнул с крыльца и вбежал в батину сараюху, откуда доносился шелест рубанка…
Всю жизнь батя столярничал, вкладывая свои силы а чужую мебель. В автомобилях и на тачках привозили бате битые серванты из современных гарнитуров и древние столики, тронутые временем и шашелем. Батя смотрел, и думал, и ухитрялся скрывать от глаза непоправимые, казалось, изъяны. Один заказчик, помнится, все просил свою жену выйти из «Жигулей», полюбоваться работой и торжественно называл батю не столяром, а художником…
— Такой художник — и одиночка! Обидно!
— А художники всегда одиночки… В одиночестве работают — стараются. Разве не так? Пых-пых…
Батя был мастак на неожиданные фразы, Алеша тогда запомнил его ответ.
Вполсарая, внушительно и солидно, как президентский стол, стоял батин верстак. По стенкам на гвоздях висели пилы, а на полках лежал разный инструмент, который батя называл «коллекцией жизни». Тут были сверла, стамески, долота, напильники и напильнички, которым никто, кроме бати, точных названий не знал. Сейчас таких и не делали. Самые ценные из них были прикрыты тряпками…
Недавно приезжал из города молодой директор новой школы и уговаривал батю: уступите инструмент, пусть дети поучатся, у них будущее, а слободке конец, переедете в город, негде будет поставить верстак…
Батя не поддавался, приподнял ладони с растопыренными пальцами, точно хотел прикрыть ими свой инструмент:
— Я им зарабатываю еще!
Так и не уступил…
Батя выдувал рубанок, когда Алеша вбежал и наспех, волнуясь, рассказал все об Анке. Батя только поморщился:
— Уймись ты! Уехала — плюнь-вдогонку!
Сгреб стружку с верстака и замахал рубанком.
Мать ковырялась в огороде, копала грядки. Ну что ж, пойдет к матери… Мать же!
Он всегда жалел ее… В детстве, бывало, выносил из дома табуретку, чтобы Гэна отдохнула, но не помнил, чтобы мать хоть раз присела. «Без труда не выдернешь и рыбки из пруда». Это едва ли не первые слова, которые он услышал от нее…
Тогда во дворе еще росла яблоня, корявая, как мать. Кидала краснобокие яблоки в траву, шелестела листьями, пока они не разлетались по всем углам пятнышками вчерашнего солнца. Едва научившись держать метлу и грабли, он помогал бате сгребать их, а мать сама поджигала. Сырые листья долго, как-то нехотя, дымили и тлели, им еще хотелось пожить. Но лишь под самым забором оставалось их несколько, которые он щадил, иногда нарочно прилепляя к доскам. Приземлившись, они уже не умели перелетать через такую высоту.
— Мам! — спрашивал он. — Зачем нам этот заборище?
— Чтобы люди не заглядывали.
— А заглянут, так что?
— Наврут про нас!
— Для чего?
— Для выгоды.
— Люди правду не говорят?
— Говорят, когда есть зачем.
— Зачем?
— Для пользы.
У матери на все имелся в запасе готовый ответ, закон жизни. Оттого она и была решительной, что всегда считала себя правой, все знала.
А вот знала, что жить ее грядкам осталось совсем ничего, а все равно копала и перекапывала всю свою землю, до вершка. От весны к весне она еще перекраивала двор, лежавший в прямоугольнике высокого забора, как в ящике, перелицовывала и штопала его ревностней, чем фартук. Все на матери было в латках.
Даже косынка на седой голове. «Не латала б, не имела».
Алеша боялся ее истомленного лица, пока не привык к тому, что оно всегда такое… А руки! Руки матери — он не мог смотреть без страха и жалости на ее пальцы, согнутые в крючья, словно они были не живые, а железные. Чего только в них не перебывало! Лопаты, грабли, ведра, кирпичи, известка, топоры, доски, колья… И уж, конечно, чугунки, чайники, котелки и кастрюльки…
Когда вместе носили помидоры на городской рынок, он и туда прихватывал для нее скамеечку. Уходил быстро, стеснялся, что встретит матерей своих соучеников, но все же успевал услышать, как мать, едва присев, начинала нахваливать товар:
— Из одной помидорки тарелку салата сделаете! Попробуйте на вкус! Вот соль.
Мать вставала и двигала к покупательнице бумажный комочек, завернутый на макушке, как конфета трюфель. Если в ответ тоже хвалили помидор, мать прибавляла степенно:
— Оттого и цена… Мы люди честные.
У нее есть деньги. И она должна понять его и посчитаться… Он помогал ей, едва начал ходить. Подметал землю у крыльца, у порога летней кухоньки, под которую приспособили времянку, державшуюся с тех дней, когда Сучковы купили эту землю и начали строить этот дом. Сгребал листья, в морозные вечера застилал парники соломенными матами, таскал воду, рыл грядки, полол траву, рассыпал удобрения, мазал стены в теплице… Все перечислить — не вспомнишь, надо снова эту жизнь прожить…
Батя вышел из сараюхи и присел на крыльце с самокруткой в коричневых зубах — ни разу не видел Алеша, чтобы батя закурил что-то готовое, сигарету или папиросу. Мать выпрямилась в огороде, увидела батю, дымившего самокруткой в ожидании завтрака, подошла, приткнула лопату к сухой стене летней кухоньки — стена вся была в пятнах и полосках от держака.
Батя мрачно смотрел себе под ноги… И вдруг сказал:
— Все ж таки цветы были, Оля!