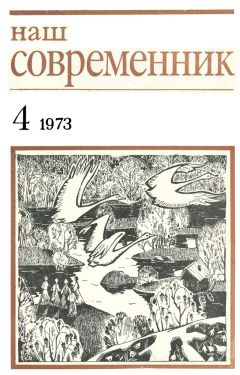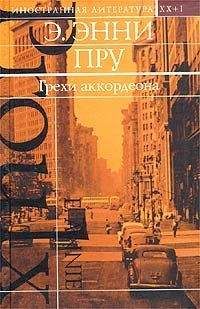Залаяла Юю, в передней легкие шаги отца.
— Эй, народ! Варя! Евгения! Спит? Как спит?! А ну, подъем, бесстыдница! Подайте мне ремень.
— Папа, не шуми, пожалуйста. Ты мне мешаешь спать.
— Что? Я ей мешаю! Второй час дня! И это моя дочь! Проклятье на мою седую голову! — Отец забегал по передней, Женька знала: сейчас он воздевает руки горе, изображая отчаяние. Отец — веселый человек, и голова у него ничуть не седая. Умница Юю заливалась звонким лаем: она любила, когда хозяин дурачится. — Взгляни, что творится под окошком. Полярный летчик привез саженцы, купил на свои деньги. Он решил подарить нашему околотку целую рощу. Слышите: рощу. Чтобы она шумела под окнами. Не перевелись, как видите, на земле русской поэты, романтики. Что скажешь, лежебока-скептик?
— Ничего, папа, не скажу.
Говорить ей и правда не хотелось, но взглянуть на человека, который дарит рощи, стоило. То студент, то полярный летчик… Женька распахнула окно. Затоптанную полянку между домами — собачий стадион: вечно там гуляли старушки с собаками было не узнать. Как по щучьему велению, всюду возникли куртинки березовые, липовые, зеленели лохматые, как медвежата, молодые кедры. Прямо под Женькиным окном разбросали руки-ветки кокетливые сосенки, под ними уже копилась тень, и даже слышался запах лесной смолы.
Пенсионеры, дети, женщины в брюках поливали, боронили, копали землю. И это Первого мая! Летчик был, видимо, неплохим организатором, если сумел вытащить из-за праздничных столов столько народу в помощь.
Полянку подмели, прибрали. Топорщились рогатые, еще нагие липки, кудрявилась сирень, в дальнем углу струилась тонкими стволами березовая рощица. Вот так бы и во всем: проснуться однажды, а в твоей жизни кем-то наведен порядок: подметено, прибрано, солнышко светит. Где же ты, волшебник-летчик, преобразовавший собачий стадион в рощу?
Посредине поляны полыхал на табуретке перламутром красавец-аккордеон. Семиклассница Верка, толстая девочка из соседнего подъезда, помогала закапывать деревце высокому парню в синей водолазке. Парень этот не студент, конечно: на широкоскулом спокойном лице его отпечаталось что-то профессионально летчицкое, полярное. Наваждение какое-то: и правда, что-то напоминало Женьке это лицо. Силясь припомнить, Женька хмурилась, пожимала плечами, но хоть убей — ничего определенного в памяти не возникало. С ней не раз такое бывало: до слез надо что-то вспомнить; казалось, вот сейчас оно само скажется, нужное слово, увидится то, что хочешь вспомнить, ан нет — все, как тень, ускользало, уплывало, рассеивалось…
Вдруг рыжий садовод поднял голову, они встретились глазами. Женька испуганно отшатнулась, вспомнила, что стоит в одной рубашке. Она задернула портьеры, а на улице, заглушая гомон праздничного дня, зазвучали «Фонарики» — напевно, чисто, необычайно радостно. И сразу Женьке расхотелось млеть в одиночестве, смаковать свои ревнивые страдания. Захотелось на волю, к людям, захотелось дохнуть ветром, солнышком, праздником.
— Мам! — крикнула она. — Где мои велосипедные брюки? Я пойду сажать деревья.
Выскочив уже за дверь, Женька спохватилась:
— Ой, забыла, мам. Поздравляю. С днем рождения.
Чмокнула мать в щеку, убежала.
— Прими и мои поздравления, ангел мой, — сказал Димов. — Еще раз. Ах, Варя, Варюша, Варвара Анатольевна! Кто поверит, что тебе за сорок? Тебе двадцать, нет, восемнадцать, как первой нашей весной. Ничего с тобой годы не сделали! Ты стала лишь красивее, соблазнительнее. — Жена закрыла Димову рот прохладной ладошкой, он поцеловал родную ладонь. В легком шерстяном костюмчике, с пышными, коротко подстриженными волосами, жена и правда казалась воздушной, хрупкой, молодой. — Помнишь, мы сидели в день твоего рождения у моря, и ты сказала: я уже старуха, мне девятнадцатый… Милый Владивосток, который нас свел! А мне тогда стукнуло двадцать, я командовал отделением, но воображал себя Суворовым. Помнишь, что я тебе подарил? В тот день я подарил тебе газовую косынку, все, на что оказался способен младший сержант-артиллерист. Но зато я обещал сделать тебя королевой острова в Южных морях.
— Господи, королевой! Ты был ужасный болтун.
— Не болтун, а романтик. Младшие командиры во все века — самые неуемные мечтатели и романтики. И то, что они обещают прекрасным дамам, они либо исполняют, либо погибают смертью героев. Я не погиб, и мне остается исполнить одно заветное обещание.
— Ты все исполнил, — улыбнулась жена. — Спасибо.
— Нет, не все. Помнишь?
— Убей, не помню. Мало ли обещают девушкам, когда ухаживают.
— А потом забывают? Нет, я не забыл. Мы сидели на нашей любимой скамейке, ты смотрела на бухту, полную кораблей, и я сказал, что подарю тебе яхту. Да, да, яхту! С алыми парусами. И ты ее получишь, яхту. Сегодня же. Это и есть мой подарок к дню твоего рождения.
Димов любил приятно удивить жену, ему нравилось, когда она, пугаясь, брала себя ладонями за лицо.
Она взяла себя ладонями за лицо, спросила:
— Господи, Паша, зачем нам яхта? С парусами… Какие мы с тобой Магелланы?
— Каждый человек — немножко Магеллан. — Димов поцеловал жену. — Но не пугайся: наша яхта с мотором в шестьдесят лошадиных сил. Есть радио, телевизор, газовая плита. Паруса тоже есть, но они только украшение. Для похожести. Словом, это прогулочный катер, и ты его законная хозяйка, потому что деньги уже уплачены. Сегодня я покажу тебе твой кораблик, и, как только растает наше море-водохранилище, ты можешь подняться на палубу и назначить любой курс следования. Догадайся, что мы прежде всего сделаем? Мы найдем маленький необитаемый остров, и я провозглашу тебя королевой!
— А спасательные круги есть?
— Конечно! И компас. И морской бинокль. И знаешь, как мы назовем нашу семейную каравеллу? «Алые паруса»! В память о мечте юности.
— Спасибо. За ягодами будем ездить.
— Ходить, мой друг. По морю ходят, а не ездят. А теперь приготовься к другой новости.
— Олег? Ты дозвонился до дивизии?
— Дважды звонил по ВЧ, но ни в штабе, ни дома Горбача нет. Наверное, в поле, на учениях. Но если Алексей все-таки получил нашу телеграмму, он отпустит Олега. Алеша помнит нас, он хороший человек. А не дошла телеграмма, не гневайся, сядем за стол без сына.
— Одним бы глазком взглянуть, соскучилась…
— Что делать, мать: такова участь родительская. Сыновьям служить — нам ждать. Я о другом. У нас, Варенька, будут гости.
— Какие гости? Ты с ума сошел. Я никого не могу принять. Договорились же, только дети и мы, никаких гостей.
— Не пугайся, я тебя в обиду не дам. Сам отправлюсь по магазинам, буду жарить, парить, варить, мыть, чистить. А ты лишь приказывай, руководи. Гусь у нас есть, яблоки тоже.
— Кого ты пригласил?
— Все свои: генерал Гоцуляк, Руммер. Ну, еще Снегирев.
— Гоцуляк?! Ты ужасный человек! Экспромтом принимать начальника стройки! Ты хочешь опозорить меня, убить…
— Они же на минуту, Варюша. Коньяк, черный кофе, музыка. Я Лещенко достал.
Но жена не слушала, она заморгала часто-часто, в глазах засверкали слезинки. Все у нее получалось внезапно и мило.
— Я идолище поганое, я монстр, но ты-то у меня гений! Я все буду, аллах свидетель, делать сам, а ты только приказывай.
— Ну, Гоцуляк, Руммер, — пудрясь перед зеркалом, вздохнула жена. — А кто такой Снегирев?
— Василий Петрович, начальник механизации. Он и есть наш добрый гений. Катерок мы покупаем у него.
Но жена не поддержала легкомысленный тон Димова, холодно отстранилась, когда он сунулся с поцелуем. Обреченно вздохнув, она ушла на кухню, и несколько минут оттуда не доносилось ни звука. Потом захлопали дверцы холодильника, защелкали выключатели электропечи, зашумела вода в кранах — все пошло своим чередом. Наконец, уже с сумкой, в пальто и шляпке, она показалась в передней, засовывая в сеточку банки, коробки, бутылки. И все молча, с каменным лицом. Значит, от участия в приготовлении гуся Димов отстранен, на кухню ему лучше не соваться. Впрочем, в целомудренную чистоту этого заповедного места не допускалась даже дочь, которая там вечно что-то роняла, расколачивала. Женьку это приводило в неистовый восторг, а мать — в слезы.
В силу такой непререкаемой гегемонии никто в семье не умел поджарить картошку, и он, Димов, допускался в святая святых лишь в качестве домашнего политинформатора. Пока жена готовила, Димов читал вслух или рассказывал что-нибудь из текущей жизни грешного человечества.
— Я не все сказал, Варюша, — продолжал он. Жена обернулась, прислонившись спиной к двери, готовая ко всему: добивай же… — Будут еще Никитины.
— Разве Сурен вернулся? — она хотела спросить не про Сурена, но хитрить совсем не умела. — Я тебя не понимаю, Павел. Очень странно, что ты их пригласил.
— Так уж получилось. Мы встретились еще до демонстрации. Иван подошел, чтобы передать тебе поздравления. И Сурен тоже. Я просто не мог их не пригласить.