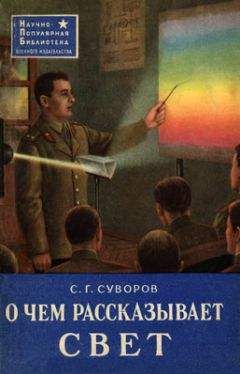– Кто пел?! Там под забором целая толпа стоит! Мы с отцом ещё с улицы услыхали, я по Живодёрке бегом бежала, летела! Это ведь не ты, не Мишка!
Не дядя Вася же? Кто пел, кто?!
– Настька, уймись! - Митро со смехом взял девушку за плечи, развернул.
– Это Илья, Смоляко, я тебе рассказывал. А это, ромалэ, Настасья Яковлевна.
Моя сестра двоюродная, Яков Васильича дочь.
Илья поднял голову. На него жадно и взволнованно взглянули большие блестящие глаза. Лицо девушки было светлым, тонким, строгим и совсем юным: ей было не больше шестнадцати. На щеках ещё горел румянец, мягкие губы были изумлённо приоткрыты, по виску бежала выбившаяся из косы вьющаяся прядь волос. Цыганка смотрела на него в упор, а он не мог даже улыбнуться в ответ и поздороваться.
– Н-да… Хорошо спели, ромалэ.
От негромкого голоса, донёсшегося от двери, Илья вздрогнул. Яков Васильев стоял у порога, опершись рукой о дверной косяк. Знаменитому хореводу из Грузин было около пятидесяти лет. Его голова и усы лишь слегка были тронуты сединой, невысокая фигура, затянутая в синий суконный казакин, была по-молодому стройной. Тёмное горбоносое лицо казалось равнодушным. Небольшие острые глаза внимательно рассматривали Илью.
– Чей будешь, парень?
Невольно передёрнув плечами, Илья назвал себя, Варьку, родителей, деда Корчу.
– Что скажешь, Яков Васильич? - весело спросил Митро, беря на гитаре звонкий аккорд.
– То скажу, что у тебя третья врёт, подтяни, - не глядя на него, сказал хоревод. Митро смущённо схватился за гриф, а Яков Васильев скользнул неприязненным взглядом по бледному личику Варьки, осмотрел восхищённые физиономии цыган и коротко сказал Илье: - Оставляй сестру. Голоса нужны.
Радости Илья не почувствовал. Вокруг смеялись, шумели, хлопали по плечу, что-то советовали наперебой, а он отвечал невпопад и украдкой искал глазами Настю, почему-то не видя, ещё не понимая, что той давно нет в комнате.
*****Ночью Илье не спалось. В окно домика Макарьевны глядела ущербная луна, на полу лежали полосы серого света, за печью копошились мыши. Рядом сопел Кузьма. Измученная безумным днём Варька заснула ещё два часа назад - прямо за неубранным столом, сжимая в руке тряпку. Илье пришлось на руках отнести её на большую кровать Макарьевны. Конечно, и думать было нечего о том, чтобы пойти растолкать сестру и, как привык, вывалить ей всё то, что творилось в голове. Илья с завистью покосился на безмятежно похрапывающего Кузьму, встал и начал одеваться.
На дворе захватило дух от холода. Тронутая заморозком трава серебрилась в лунном свете, смутно белели перекладины ворот. Илья передёрнул плечами, запрокинул голову, рассматривая звёзды. Не спеша прошёлся по тёмному двору.
В который раз подумал о лошадях, дожидающихся его на Серпуховской заставе, встревожился - напоили ли? Всыпали ли корма? Перекрестили ли дверь конюшни на ночь? Кто будет думать о чужой скотине…
Внезапно совсем рядом послышался негромкий смех, разговор. Илья изумлённо осмотрелся. Подойдя к воротам, выглянул на пустую, тёмную Живодёрку. Никого не увидев, поднял голову и только сейчас заметил свет в мезонине Большого дома. В жёлтом квадрате окна мелькнула тень. С минуту Илья смотрел на неё. Затем подошёл к большой ветле, ухватился за нижний сук дерева, раскачался, забрался в развилку. Цепляясь за ветки, поднялся выше - и замер.
Сквозь чёрное переплетение сучьев было отчётливо видно, как в мезонине отдёргивается занавеска и открывается окно. Ещё слышней стали голоса.
– Стеша, смотри, какая луна! Да встань, встань! - Настя, смеясь, тащила к окну упирающуюся Стешку. Она была в том же белом платье, распущенные волосы падали на грудь и плечи. Илья невольно всем телом подался вперёд, ближе к окну.
– Настька, да отвяжись ты! - в окне появилось недовольное лицо Стешки.
Она протяжно зевнула на луну. - Ночь-полночь, спать давно пора.
– А мне не хочется! И знаешь что - давай гитару…
– Не дам! - отрезала Стешка. - Весь дом спит давно, ты одна колобродишь.
В кои-то веки никуда не ехать, поспать, как люди… Она отошла в глубь комнаты, и теперь до Ильи доносилось лишь её невнятное бурчание. Настя с улыбкой слушала её, стоя у окна. Вцепившись в шершавую, влажную ветку, Илья жадно смотрел в её лицо.
Внезапно Стешка бросила какую-то фразу, и Настя нахмурилась. Пожав плечами, бросила:
– Дура.
– Чего "дура"? - Стешка снова появилась в окне, Илья отчётливо видел её вороний профиль. - Разве таких в хор берут? Эта Варька совсем петь не умеет, два раза такого петуха дала! А на кого похожа? И зачем она Якову Васильичу сдалась - не знаю. Господ пугать?
"Ах ты, выдра… На себя бы посмотрела!" - тихо выругался Илья.
– А этот… как его… Смоляко… Ну да, спел хорошо… Хотя и лучше можно.
А ты его морду видала?! Сатана! И взгляд волчий! Как встал из-за стола, как зыркнул по сторонам - я чуть баранкой не подавилась! Да господа его спьяну за чёрта примут! И что у Якова Васильича в голове - зарежь, не пойму.
– Да уж побольше, чем у тебя! - с досадой сказала Настя. Помолчав, снова улыбнулась. - Как же это было? А, Стеша? "Ай, пропадаю я, хорошая моя!.." Она напела вполсилы, мягко, едва коснувшись высокой ноты, но у Ильи по спине проползла дрожь. Судорожно вздохнув, он прикрыл глаза, облизал пересохшие губы. Вот он - голос… Куда Варьке!
– С ума сошла?! - завопила Стешка. - Ночь на дворе, перебудишь всех!
Закрой окно, лихоманку схватишь, что за горе мне с тобой!
– Сейчас…
Настя высунулась в окно почти по пояс, потянувшись за открытой створкой. Илья отшатнулся, сухая ветка с треском сломалась под рукой - и Настя, повернувшись, взглянула прямо на него. Илья замер. От страха вспотела спина под рубахой. Стороной мелькнула мысль о том, что разглядеть его в таких потёмках девушка не сможет, ведь луна светит сзади. Не свалиться бы только… Зажмурившись, он всем телом прижался к стволу.
Настя вдруг тихо рассмеялась.
– Кузьма! Ты что там делаешь? Человек ты или галка? Слезай, чяворо, иди спать! - Повисла короткая пауза, а затем девушка воскликнула удивлённо, уже чуть испуганно: - Кузьма, это ты?
Илью словно ветром сдуло с развилки. Он съехал по стволу, больно ободрав щёку о жёсткую кору дерева, чуть было не дал стрекача к дому, но вовремя сообразил, что в лунном свете будет виден как на ладони, и ничком упал на землю. Сердце бухало так, что хотелось зажать его рукой, и Илья не слышал звуков, доносящихся сверху. Лишь спустя несколько минут он решился поднять голову.
Окно в мезонине погасло, створки были плотно закрыты. На всякий случай Илья подождал немного. Затем поднялся и медленно пошёл к дому.
Пролетел месяц. Осень подошла к середине, вётлы на Живодёрке давно обнажились, небо было затянуто свинцовыми тучами, то и дело сыпавшими на землю дожди. Впрочем, это не мешало Илье Смоляко с утра до ночи пропадать на Конной площади. Ему везло - торговля и мена шли неплохо,
дневным наваром можно было, не стыдясь, хвастаться перед хоровыми.
В конце концов Илья вынужден был признать, что и в городе жить можно.
В то время в Москве было много цыган. Те, кто не работал в хорах – барышники, - жили возле Конной площади, у Серпуховской и Покровской застав. Целые переулки были забиты смуглыми крикливыми обитателями, дворы пестрели юбками и платками цыганок, по разбитым мостовым носились черноглазые дети. Хоровые же старались выбирать дома ближе к своим местам заработка. Многие из них селились в Петровском парке, возле знаменитых на всю Москву ресторанов "Яр" и "Стрельна". Там снимали дома Поляковы, Лебедевы, Панины, Соколовы - элита московских цыган. Многие жили в Грузинах, вокруг трактира "Молдавия". Десятки семей населяли Рогожскую заставу, Марьину Рощу и Разгуляй.
В хоре Якова Васильева было тогда около тридцати цыган. Примадоннами считались Настя и Зина Хрустальная - двадцатипятилетняя цыганка с бледным надменным лицом. Зина славилась своими романсами и имела бешеный успех у "чистой" публики. У неё был собственный дом в Живодёрском переулке, куда цыгане заходили редко: все знали, что примадонна пятый год живёт невенчанной с графом Иваном Ворониным и тот пропадает у неё целыми днями.
Граф Воронин был московской легендой. Выходец из богатого и древнего московского рода, любимец света, смуглолицый красавец с жёсткими серыми глазами был одинаково вхож и в цыганский дом в Грузинах, и в гостиную генерал-губернатора Москвы князя Долгорукова. Его видели в светских салонах и публичных домах, на скачках и благотворительных балах в пользу инвалидов последней военной кампании, в Дворянском собрании и на каруселях в Петровском парке. Ходили слухи, что Воронин разоряется. Но граф разбивал эти домыслы в пыль своими кутежами у цыган и карточной игрой, счёт в которой порой шёл на десятки тысяч. Цыгане с Живодёрки звали Воронина "Пиковый валет" - за то, что однажды он на спор не глядя выстрелил с пятнадцати шагов в карту - в пикового валета, пробив точно середину чёрного сердечка. Зина Хрустальная называла графа своим проклятием и была от него без ума. Воронин, кажется, тоже любил её, но на шутливые вопросы цыган о том, когда же свадьба, Зина отмалчивалась.