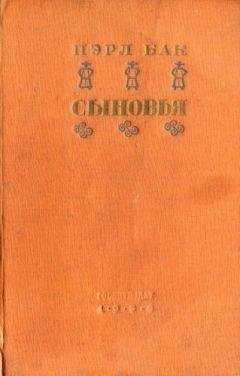Дядя Родя и слова не сказал, только плюнул, надо быть, потому, что тут же послышался взволнованно-решительный, самый знакомый из знакомых, ужасно любимый голос:
— Созовем волостной сход в школе. Помещение удобное, между классами перегородка до потолка, как дверь, раскрывается на обе стороны… Ну те-с, раздвинем перегородку, места всем хватит. Дюшен — меньшевик, что вы от него хотите?
— Ура-а-а! — рявкнули сени. — Да здравствует наша школа! С перегородкой!
Вразноголосицу оглушительно летело в избу:
— Долой контрреволюционеров Стрельцова и Дюшена!.. Он курит папиросы «Дюшес», потому его и зовут так… Смерть врагам народа!
Великих ораторов, крикунов прогнали из сеней на крыльцо, чтобы не мешали депутатам…
В эти именно дни неожиданно появился в усадьбе дедко Василий Апостол в зимнем, на вате, пиджаке, который был ему тесен и короток, в чужих яловых сапогах с заплатами на голенищах и сам какой-то чужой, не похожий на себя: притихший, ласковый с людьми. Он, оказывается, гостил у дальних сродников, ткачей, в Иваново-Вознесенске. Сродники и одели, обули деда. Он хвалил племяшей, но жить у них не остался.
— Воздух чижолый, фабричный, дыху нет, в одночасье помрешь, а мне нельзя, рано, — объяснял он. — Не все в жизни совершил, глуп был, верил тому, чему не надобно… Теперича поумнел маленько. Совершу!.. И других научу, потому уразумел, — загадочно говорил добро и мягко Василий Ионыч.
Уж не дуб шумел бурей и не гнулся, суковато-прямой, с сивой бородой по пояс и бездонными омутами под нависшими лохматыми бровями. Дедко горбатился и пошатывался, когда ходил, но еще цепко опирался на палку.
Родня пообстригла ему бороду, а не обровняла, она торчала кудельными клочьями, как старый, облезлый веник. И темные омуты в глазницах пропали, точно высохли. Из глубоких ям глядели ласково-грустно на народ блекло-голубоватые глаза, точно осеннее, затуманенное к вечеру небо. Они как бы все время ласково-тихо беседовали с людьми, эти выцветшие очи, и, вдруг, зажигаясь, становились синими, молодыми и кричали криком что-то страшное, непонятное.
После того, как дедко Василий, получив с фронта известие о гибели последнего, младшего сына Иванка, изрубил на дрова и сжег в подтопке иконы, пустив на растопку вместо бересты псалтырь и библию, снохи очень боялись его, ни в чем не перечили, сторонились, как он явился в усадьбу, шептались, что старый спятил с ума.
Да и все мамки так думали и при встречах с дедом шарахались прочь. А мужики, начитавшись газет, наслушавшись питерских невозможных новостей, посмеиваясь, пытали громко деда Василия, и он охотно, тихо-ласково отвечал им, как малым, неразумным внучатам, и все одно и то же: о боге.
— Человек и есть бог, для себя и для других… Говорю вам, человек на земле — бог… И нету никакого другого.
— Ух ты! А на небе?
— И на небе, ежели очутишься на ероплане, станешь там богом.
— Обожди, куда же господь денется?
Дед внезапно опалял ржущих, веселых мужиков синими молниями.
— По шапке его, вашего бога, как царя!
И тут же меняясь, будто лаская несмышленышей, дорогих ему, непонятливых, толковал опять свое, одинаковое:
— Нету царя на земле, нет и на небе.
Максим Фомичев, если был поблизости и слышал такое, плевался и бранился.
— Окстись, богохул, антихрист! Что ты городишь, подумал?.. Право слово, антихрист, другого имени тебе нет!
— Эх ты… Вася-антихрист! — укоризненно повторил, вздыхая, Устин Павлыч.
Олегов отец, одетый во все старенькое, серенькое, незаметное, не отходил нынче от народа. Где мужики, там и он. Больше молчал, поддакивал, если речь заходила о новой власти, которую он открыто одобрял. Теперь, слушая деда, косясь на него из-под разбитых, перевязанных суровыми нитками очков, давно потерянных и вдруг найденных, Устин Павлыч задумчиво бормотал:
— Без царя, без Керенского жить можно. Особливо сейчас, с большевиками, умничками. А без бога, кто его знает, пожалуй, робковато… Без бога, Василий Ионыч, человечишко, пожалуй, станет зверем. Только бог его в руцах своих и держит. Побаивается господа всевышнего, с-сукин сынок, и не все дозволяет себе… А ежели ему некого бояться?.. Пожрет один другого!
Не повышая голоса, дед отвечал упрямо-ласково:
— Как знать, может, и не пожрет… Ну, богатых проглотит, не жалко: того стоят. А бедных чего ему есть? Он, человек, сам бедный.
Павел Фомичев, оглядываясь на брата, с которым он, разделясь избами, добром и землей, жил, как известно, опять мирно-свято, заметил убежденно, со злобой:
— Сперва бедные богатых пожрут, как сейчас большаки. Потом сами себя с костьми, без остатка, помилуй нас, господи-боже! — И размашисто крестился, чтобы все видели, какой он набожный. — Однова наша надежда, молитва: прогонят живехонько большаков, не угодны они богу.
Мужикам сразу становилось не до поучений деда. Павел задел их за самое живое. Огрызаясь, они кипели:
— Нам угодны большевики! Понятно тебе? Нам!
А дед Василий, согласно кивая шапкой и ершистыми остатками бороды, лаская мужиков синим молодым светом, толковал мягко, задушевно:
— Верить надобно, граждане, человеку, а не богу, себе верить, большакам… Слушай меня и запоминай: добру верь, за добро головы не жалей, победишь беспременно… И станет тебе хорошо. Зла-то на свете и не будет, как бога. Одно добро на земле, для всех… Разве плохо?
— Иди ты, прости господи, к черту-дьяволу со своим добром! Провались в преисподню, сатана… Там твое место! — орали, ругались братья Фомичевы и уж не крестились — сучили кулаками. — В аду тебе будет хорошо, Антихрист!
Это прозвище прилипло к деду Василию как смола — не отдерешь, не отмоешь. Нет, оно, прозвище, было хуже смолы, — как метина на лбу, выжженная каленым железом.
И не стало на свете с той поры дедка Василия Апостола. Появился в усадьбе Вася-Антихрист.
Он разыскал дядю Родю поздно вечером, когда тот собрался спать и Яшка с Шуркой, не расставаясь, пристроились уже рядышком на печи. Слабо, трепетно горела церковная, грязного воска, тонкая свечка, припасенная неугомонной Тасей, и неясная, лохматая тень от дедки падала на стену и шевелилась, качаясь. И дед качался пьяным, бормотал несуразное, близко подсев к Яшкиному бате на кровать. Синий безумный огонь пылал в ямах под седыми нависшими кустами. Тасина свеча перестала замечаться.
— …Взойду на амвон в шапке и совершу… Нельзя? Оскорбление? Да не обижу я народ, не обижу! Я токо скажу: смотрите на меня, товарищи-граждане, я разговариваю с вашим господином-богом. Где он? Что с вами делает?.. Безжалостно! А разве бог может быть безжалостным, глухим, немым?.. Стало, нет его и не было никогда… Коли ты, бог, есть, отзовись! Порази меня за неверие громом насмерть… А-а, молчишь? Не могешь?.. Пустота, обман…
— Не выдумывай глупостей, Василий Ионыч, — строго увещевал дядя Родя. — Поп, отец Петр, знаю я его, скажет: «Выведите этого старого, полоумного дурня из церкви, рехнулся, бес в нем сидит, соблазняет…» Заломят тебе назад руки, выведут на паперть, за ограду, насуют под бока, только и всего. Могут и до смерти избить, Фомичевы, мы скажем… Да разве так надобно бороться с темнотой, милый мой Василий Ионыч?.. И не мешай нам, в воскресенье — волостной съезд Советов в школе.
Они долбили каждый свое, шептались и шептались, чтобы не мешать ребятам спать. А те не могли долго заснуть, когда и ушел дедко. Растревоженные, напуганные, признаться, теперь шептались под дяди Родин храп Шурка и Яшка. Они не смели соглашаться и спорить с дедом, они только боялись за него. Неужто он это сделает, совершит? Да не одни Фомичевы, святоши, все мужики изобьют его, а бабы выцарапают глаза…
Глава XXII
«…МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!»
В субботу классы распустили в большую перемену. Не было ребячьего, положенного в конце недели праздничка — мазни-рисованья красками и пачканья-творения напропалую из глины кому чего вздумается. И очередь у книжного разлюбезного шкафа Григорий Евгеньевич все время поторапливал: «Не копайся на полках, все книги интересные, бери поближе, которые не читал. Нуте-с?»
Заманчивый порядок, заведенный учителем — с осени — самим ученикам брать книжечки из школьного библиотечного шкафа, — этот порядочек оказался нынче не больно выгодным. Ребята подолгу не отходили от полок, вставали на цыпочки, лезли друг другу на плечи, чтобы дотянуться до верхних, самых бесценных, как бы спрятанных от тебя сокровищ. Да ведь и не сразу решить, какую милягу-книжечку брать, глаза разбегаются, этакая прорва богатств в мягких обложках и негнущихся, твердых корках напихано там, на верхних полках, — руки устают доставать и рассматривать, выбирать добычу. Терпи, Григорий Евгеньевич, раз сам придумал, установил это неслыханное дело, такое же новое, правильное, как Советская власть.
Не все ребята знали, почему Григорий Евгеньевич спешит в нынешнюю субботу с выдачей книг, куда торопится, не спрашивает, по обычаю прочитанное (не прочитал — не получишь подарочка!), не знали, почему без праздника отправляют их нынче по домам, не разрешают попачкаться всласть и вволю глиной и красками. Школьный народ ворчал и сердился. Но кто знал тайну, бешено помогал учителю поскорей управиться с выдачей книг, незаметно толкал взашей и в спину, кто мешкает, толчется у шкафа. Знакомые с тайной охотно соглашались забыть краски и глину до следующей субботы и мучились одной лишь неизвестностью: позволит или не позволит Григорий Евгеньевич остаться в школе после уроков?