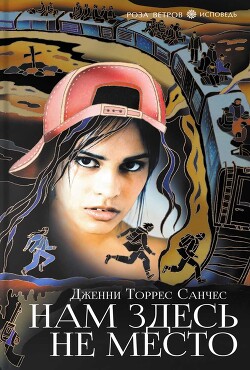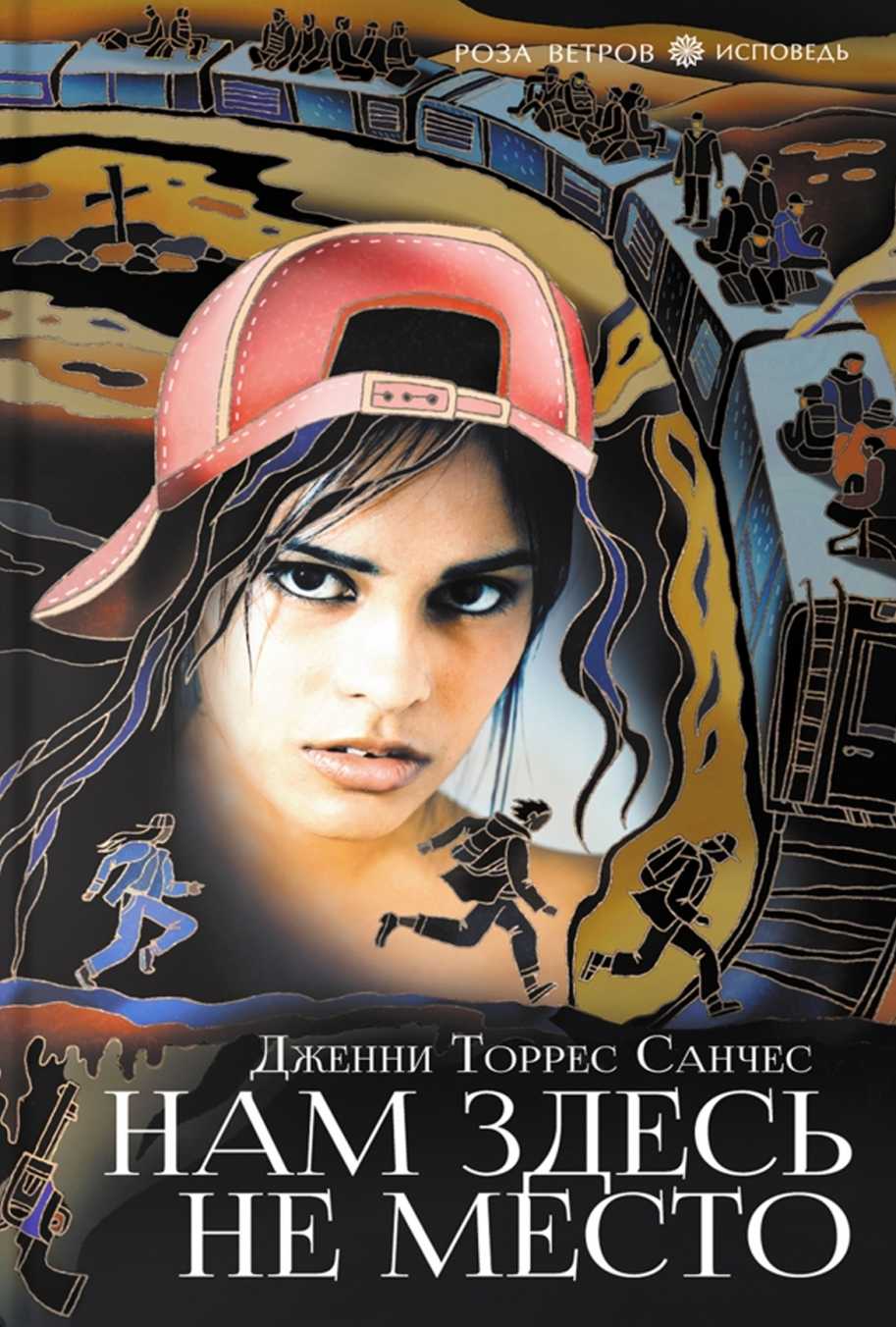Вот и сейчас он смущенно натягивает рубашку на круглый живот, и мне становится ясно, что мое замечание всколыхнуло в нем все его комплексы. Будь я парнем, который хочет его сломать, просто продолжил бы доставать Чико. Но я люблю друга, поэтому не делаю этого, а напоминаю себе, что надо бы ненадолго от него отстать.
Он швыряет в мою сторону приличный кусочек тортильи, который попадает мне в волосы. Я трясу головой, чтобы избавиться от него, — и тут снова звонит мамин мобильник. Мы слышим, как она отвечает, а потом ее голос из спокойного становится возбужденным:
— Лусиа, calmate! Успокойся! Я позвоню донье Агостине, но ты просто не нервничай… Ты должна сохранять спокойствие. Приеду через несколько минут. Все будет хорошо, обещаю.
Чико смотрит на меня, его левый глаз до сих пор красный и слезится, а пальцы сложены для щелчка, но на лицо уже наползла тень тревоги.
— Что случилось? — нервничает он.
Я подхожу к открытой арке, отделяющей нашу крохотную кухню от гостиной, которая ненамного больше.
Она заставлена громадными красными бархатными диванами. Мама купила их за хорошую цену еще до моего рождения. Она гордится, что битый час торговалась за них с продавцом, восклицая: «Да кто захочет сидеть на бархате, когда жара сорок градусов и влажно?!» Но, оказывается, сама мама очень этого хотела. Она считала, что диваны выглядят просто по-королевски, и отвоевала их, хоть теперь нам и приходится вставать каждые пять минут, чтобы немного охладиться.
Мама расхаживает возле нашего древнего, как мир, телевизора, прижимая мобильник к уху.
— Что происходит? Все нормально? — спрашиваю я, готовясь услышать, что кто-то умер. Или убит. Или похищен.
— El bebe, Пульга! Ребенок вот-вот родится!
На ее лице, на мгновение вытеснив беспокойство, появляется широченная улыбка, а глаза делаются огромными от радости. Прежде чем я успеваю хоть что-то еще спросить, она уже начинает новый телефонный разговор, объясняя донье Агостине, что у моей двоюродной сестры Крошки началась роды, а mua [3] Лусиа не может отвезти ее в больницу, и пожалуйста, пусть донья поторопится!
Крошке семнадцать — на два года больше, чем мне. Она моя двоюродная сестра, хоть и не по крови. Точно так же Лусиа мне тетя, но не кровная. А Чико — мой брат, и тоже не по крови. Кровь, если только она не проливается, ничего для нас не значит. Мы семья и всегда горой стоим друг за друга, что бы ни случилось. Поэтому через миг, перекрывая рев своего мотороллера, мама кричит, чтобы мы заперли дом, выезжает с нашего переднего патио и мчится к mua Лусии и Крошке.
— Погнали! — вопит Чико, выбегая из кухни и протискиваясь мимо меня.
Он давно умирал от желания увидеть ребенка Крошки, постоянно таращился на ее живот и, когда мы собирались все вместе, спрашивал, как она себя чувствует.
Сперва я думал, что Чико просто в своем репертуаре: беспокоится обо всех на свете и считает младенцев, щенков и котят ужасно милыми. Но однажды вечером, вскоре после того, как выяснилось, что Крошка беременна, мы сидели в нашей комнате, и он сказал мне, что верит, будто после смерти мы возвращаемся на землю. Будто мы рождаемся снова и находим способ быть с теми, кто нам дорог. Тогда я понял: Чико надеется, что к нему таким образом вернется его мама. Он, наверное, думает, что, увидев наконец ребенка Крошки, сможет узнать в нем черты своей матери. Мы-то с мамой не особо верим в такие вещи, но кто знает: может, Чико и прав.
Я хватаю ключи и запираю дверь. А потом мчусь в сторону дома mua Лусии по улицам нашего баррио [4], где еще не улеглась пыль, которую поднял мамин мотороллер, и легко нагоняю Чико, потому что я мелкий и шустрый — и это хорошо для здешней жизни. Мы уже на полпути, и тут Чико вспоминает, что олимпиец из него никакой. Он замедляется до бега трусцой, а потом переходит на шаг.
— Черт, — говорит он, сгибаясь пополам и хватаясь за живот, — я совсем запыхался. Давай просто пойдем. Рожать же все равно долго, да?
Я решаю, что он говорит дело, и мы сбавляем ход. Чико хватает ртом густой влажный воздух, и его лицо краснеет, становясь похожим на потемневший апельсин.
— Парень, а почему Крошка так затянула? — спрашивает он. — В смысле, чего ей было не поехать рожать в больницу? Разве это не надежнее? А она вот так рожает дома, будто сейчас Средневековье какое-нибудь. Ты думаешь, с ней все будет нормально? — Он смахивает со лба бисеринки пота, щурясь от палящего солнца — яркого и белого.
— Ну конечно, с ней все будет нормально. Женщины рожают каждый день, так ведь? И ты же знаешь нашу Крошку. Малюсенькому ребенку с ней не потягаться. — Я смеюсь, надеясь убедить Чико, но он лишь пожимает плечами.
Я вижу, как его начинает пожирать тревога. Он всегда нервничает, особенно если дело касается Крошки, меня или наших матерей. Например, Чико тревожится, когда мама задерживается с работы хоть на несколько минут, потому что она может не успеть добраться засветло. Тут у нас никто не хочет ходить впотьмах.
А еще, было дело, mua Лусии названивали какие-то типы, требовали денег, так у Чико все внутренности сжимались, скрипели и стонали от беспокойства, как будто что-то грызло его изнутри. Закончилось это, лишь когда прекратились угрозы, хоть мама с mua Лусией и утверждали, что, как люди говорят, такое частенько случается. Просто всякая шпана притворяется опасными парнями — вдруг удастся срубить легких денег. Если не заглотишь их наживку, они просто отвалят, и всё. Надо признать, я и сам был немного напуган этим. И mua Лусиа тоже переживала, это точно. Вот и еще одна особенность здешней жизни — никогда нельзя точно сказать, где реальная угроза, а где жульничество.
— Дикость какая-то, скажи? — подает голос Чико. — У Крошки будет ребенок!
Я подобрал на дороге камень и зашвырнул его подальше. Упав на землю, он взметнул облако пыли. Да, это дикость. И конечно, Крошка должна бы рожать в больнице. Нельзя было ждать так долго и дотягивать до того момента, когда она уже не сможет ходить и mua Лусии придется в панике взывать к помощи Марии, Иосифа и моей мамы.
Впереди я вижу донью Агостину, которая спешит к дому Крошки, и мне становится чуть легче: эта старушка работала акушеркой, когда была помоложе. Может, все еще обойдется и Крошка будет в порядке, пусть даже у нее уже несколько месяцев совсем потерянный вид.
Дело в том, что Крошка, похоже, так долго тянула, потому что вообще не хотела этого ребенка. Она отказывалась признавать его существование. Не говорила о нем. Ничего для него не делала. Думаю, какая-то ее часть считала, что, если игнорировать беременность, та как-нибудь рассосется. Из-за этого я жалел Крошку сильнее, чем когда-либо, сильнее, чем когда ушел ее отец. И даже сильнее, чем когда он так и не вернулся.
Не думаю, что Крошка вообще собиралась сообщать mua Лусии, маме, Чико или мне о своей беременности. Интересно, если бы мы не узнали о ней случайно, что делала бы Крошка, когда пришло время рожать? Может, закрылась бы с вечера у себя в комнате, а наутро вышла, держа младенца на сгибе одной руки, по-прежнему отказываясь признавать, что он есть, и пропуская мимо ушей все обращенные к ней вопросы?
Мы узнали о ее беременности лишь потому, что несколько месяцев назад она выпала из белого автобуса, который ездит к открытому рынку в центре нашего города, и, окровавленная, попала в клинику с переломами и синяками. Мы с мамой добрались туда как раз вовремя, чтобы услышать, как Крошка пытается объяснить доктору, что же произошло.
Она бормотала про жару и тесноту в автобусе: мол, у нее закружилась голова, кто-то толкнул ее — ну она и выпустила поручень. Вот и всё, настаивала Крошка. Именно так она и вывалилась на все эти камни из открытого автобуса, как раз когда он начал спускаться с самого высокого холма нашего баррио.