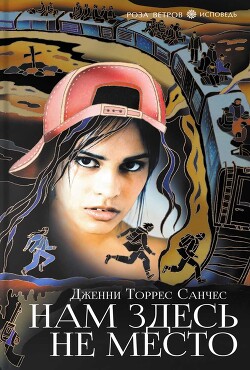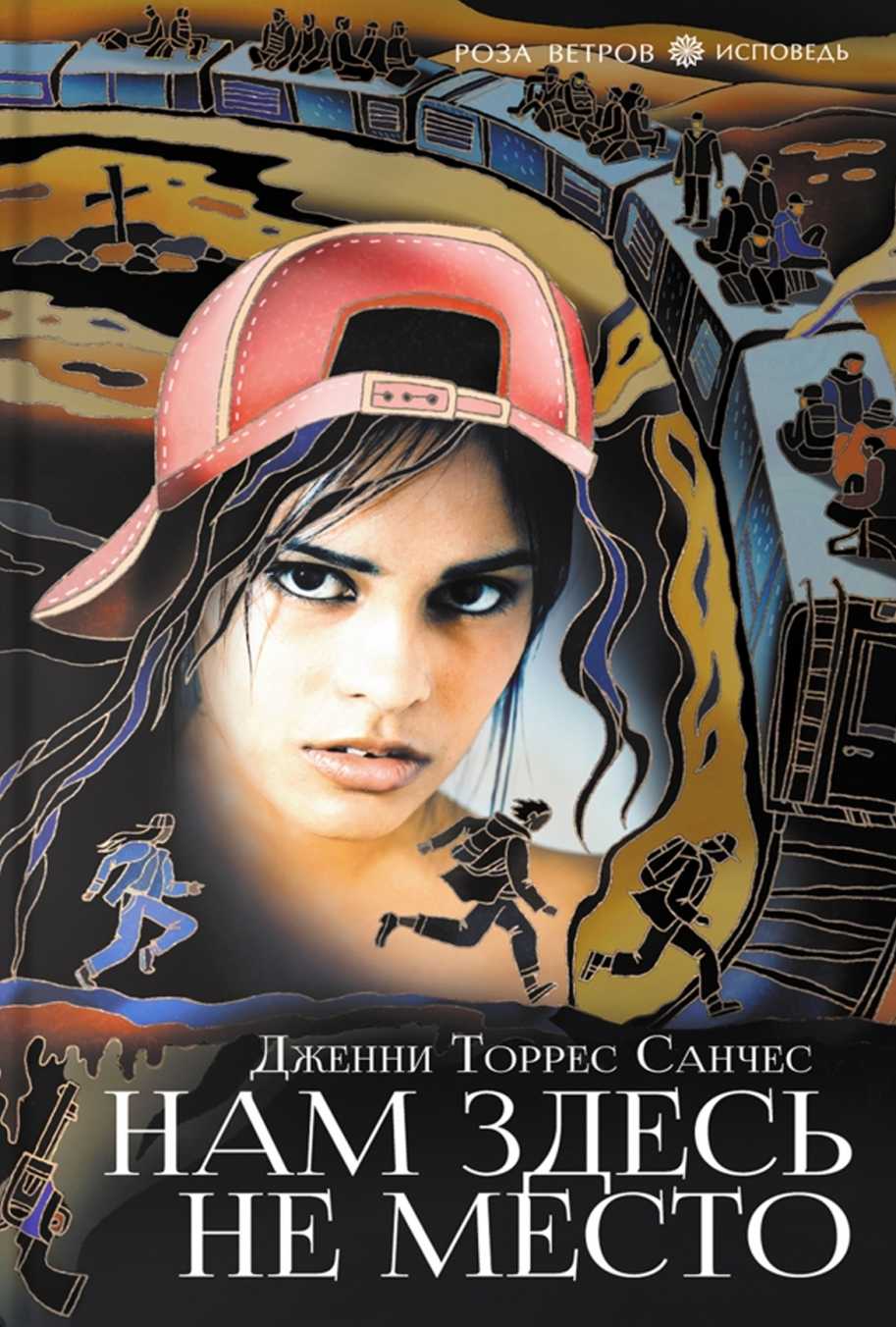К горлу подступают рыдания. Как? Почему после всего того, через что я прошла, меня ждет такой финал? Я ищу фургон, который был здесь, который приехал и увез Пульгу. Кажется, всего несколько мгновений назад я оставила его лежащим на земле.
Как могла я бросить своего друга? Надо к нему вернуться. Найти его. Я вглядываюсь в бескрайнюю пустоту, высматривая хоть какой-нибудь намек на движение, хоть что-нибудь.
Но ничего не вижу.
Ничего.
Голова тяжелеет, мир кренится сперва в одну сторону, потом в другую. Я уже не знаю, откуда пришла и куда иду. Все расплывается, небо сливается с землей. И мое тело отказывается служить.
Я трачу последние силы на рыдания без слез и заползаю под пахнущее гарью дерево. Иголки молодых побегов кактуса царапают лицо и шею, оставляют крохотные порезы, которые зудят и горят, а мой разум все повторяет ужасную истину:
«Ты здесь умрешь».
Пульга
За нами закрываются металлические ворота, и мы оказываемся на стоянке перед зданием песчаного цвета. Теперь меня познабливает. Мокрая одежда стала холодной от работающего кондиционера.
— Vamos. Пошли, — говорит патрульный, который привез меня. Он выходит из машины и открывает заднюю дверцу.
Я пытаюсь выбраться из фургона, но ноги не держат, я спотыкаюсь и падаю на землю, проехавшись лицом по бетону. Мне хочется только одного — тут и остаться. Но мужчина хватает меня и заставляет подняться.
— Camina. Иди, — велит он, и это слово режет мне слух.
Я только и делаю, что хожу. Он что-то еще бормочет по-английски, я понимаю только отдельные слова.
— Вот только этого дерьма на меня не навешивай. Я знаю, ты можешь идти. — Он подталкивает меня вперед, но мои ноги будто из бумаги.
Дверь здания распахивается, потом закрывается за нами, и снова становится прохладно. Патрульный гонит меня по коридору в какой-то кабинет, где я сажусь на стул, жесткий и неудобный, как земля, а он задает вопросы, которые мне непонятны. Тело снова начинает бить дрожь. Я ничего не отвечаю.
Мужчина обыскивает мой рюкзак и отдает его какому-то другому сотруднику. Сам он улыбается и кивает.
— О’кей, — говорит он, берет какую-то сложенную в несколько раз фольгу и ведет меня по коридору к другому помещению. Когда он открывает дверь, из-за нее вырывается холодный воздух, и я вижу, что комната полна съежившихся людей, которые кутаются в одеяла из фольги.
— Вот ты и на месте, amigo, — сообщает он, сует мне одеяло и заталкивает меня внутрь. — Наслаждайся.
Дверь за ним закрывается. Вдоль бетонных стен на бетонных скамьях сидят парни примерно моих лет и несколько мужчин постарше. Они с минуту смотрят на меня, а потом снова съеживаются под своими алюминиевыми накидками.
Тут такой холод, что кажется, будто я оказался в холодильнике. Холодный воздух вырывается из вентиляционного отверстия в пустом углу комнаты, прямо над унитазом, отгороженным низким бортиком. Комната серая, флуоресцентно-белая и серебристая — ни единого теплого пятна.
Я заворачиваюсь в мятое одеяло, сажусь на бетонный пол. Холод мгновенно проникает под мокрую одежду, в тело и кости, которые тут же начинает ломить. Но я слишком вымотался и ослаб, чтобы встать.
Все здесь кажутся мертвыми — даже те, кто погружен в сон или находятся без сознания. Я плотнее кутаюсь в тонкое покрывало, серебристое, словно лед, словно стальной клинок, и чувствую, как кровь стынет в жилах, а биение сердца замедляется. Тело почти не слушается. Я понимаю, что замерзаю.
Может, это я так умираю?
Похоже, мой организм все-таки решил сдаться.
От этой мысли мне становится почти уютно, и впервые за довольно долгое время я разрешаю себе подумать о доме и о маме. Я отметаю мысли о страхе и крови, звуках выстрелов и пулях, и сознание наполняется теплым разноцветьем — всеми оттенками календулы, мандарина, охры. Я вспоминаю, как нагревалась кожа, когда мы шли под солнцем, думаю о маминой красно-розовой помаде, о румянце на ее щеках и ванильном аромате ее духов.
Но потом в голову закрадываются другие мысли: о Крошке, которая сейчас где-то в пустыне, одна. И ее палит солнце. Жива ли она?
Дверь открывается, кто-то раздает нам хрустящие хлебцы. Мои руки сами тянутся к ним и засовывают в рот, хоть я и приказываю им не делать этого. Есть я не хочу. Не хочу больше держаться. Но тело слишком долго боролось за выживание и теперь не желает подчиняться мозгу. Это происходит снова и снова, и я начинаю сомневаться, уж не мерещится ли мне то, что я вижу. Потом дверь открывается, и в холодное помещение заталкивают кого-то еще.
— Сколько ты уже здесь? — шепчет он.
Я смотрю на него, пытаюсь заговорить, но ничего не выходит. Он глядит на меня, потом тычет пальцем мне в руку и спрашивает:
— Эй, с тобой все нормально?
Я больше ничего не слышу, только плотнее кутаюсь в фольгу, чувствуя себя куском мяса в морозилке, и таращусь во флуоресцентный свет. Нет больше ни дня, ни ночи. Лишь этот свет.
Похоже, кровь больше не питает мой мозг, просто не добирается туда. Я могу думать только о холоде и о том, что сердце у меня, наверное, превратилось в ледяную глыбу, с острыми, как бритва, гранями. И чувствовать уколы тысяч игл, которые впиваются в легкие с каждым вдохом.
«Я правда думаю, что у нас все получится», — громко и отчетливо звучит в ушах голос Чико. Я поднимаю глаза и вижу его в накинутом на голову серебристом покрывале — в точности каку Девы Марии. Лицо и губы у него посинели, глаза смотрят на меня. Он страшен и прекрасен одновременно. «Не сдавайся сейчас, Пульга», — говорит он. Я моргаю, и призрак исчезает. Но я слышал его. Это точно.
— Сколько еще нас будут тут держать? — спрашивает кто-то, прерывая мои мысли.
Подняв глаза, я вижу, что это парень, который спрашивал, все ли со мной нормально. У него усталое лицо, потрескавшиеся губы разбиты.
Я смотрю на лампочку над головой и думаю о Чико. А потом говорю парню слова, которые вертелись у меня в голове, пробиваясь сквозь призрачные шепотки:
— Тут нет ни дня, ни ночи.
Не знаю, сколько времени потребовалось на то, чтобы их произнести. Но мне удается это сделать.
И я представляю дурацкую улыбку Чико.
Яркий свет бьет по глазам, вызывая в них ощущение пульсации. Я ничего не вижу, но слышу, как кто-то орет, требуя пошевеливаться, а кто-то другой хохочет. В носу стоит запах пыли, дизтоплива. Кожу согревает неожиданное тепло.
Вначале мне кажется, что я все еще в Гватемала-Сити с Чико и Крошкой. Потом я вспоминаю, что потерял их. Затем мне приходит в голову, что я все еще в пустыне, потому что в руках у меня рюкзак. Но когда в конце концов удается как следует открыть глаза на этом слепящем солнце, я вижу, что стою перед автобусом. Сотрудник миграционной службы держит пакет с яблоками и велит мне и другим парням моих лет, и девчонкам тоже, которые неизвестно откуда взялись, брать по штучке и садиться в автобус.
Яблоко битое и подгнившее, мне совсем его не хочется. Я уже собираюсь швырнуть его на пол автобуса, но тут до меня доносится голос Чико. «Съешь яблоко, Пульга», — произносит он. Я ищу друга глазами, но вижу лишь чужие усталые лица. Чем сильнее я стараюсь противостоять голоду, тем громче бурчит у меня в животе.
Вопреки моему нежеланию зубы сами впиваются в мякоть, я жую и глотаю ее, хотя от этого живот болит еще сильнее. Меня даже подташнивает, но я доедаю все до последнего кусочка, вместе с огрызком. Когда в руках остается только хвостик, я кручу его в грязных пальцах, надеясь, что Чико это видит.
В автобусе жарко, ощущение такое, что кислорода на всех не хватает. В окна палит солнце. Мы едем, и я чувствую, как тяжелеют веки, но не закрываю глаза, потому что боюсь больше никогда не открыть их.
Но мир мало-помалу растворяется. И я вместе с ним.
Мы подъезжаем к другому зданию, оно тоже песчаного цвета, у него сглаженные углы, наверное, это от ветра и от времени. Вокруг него со всех сторон лишь чахлая растительность, скалы и изгородь из рабицы. Никаких других построек не видно, лишь земля да горы вдалеке. Мы в какой-то глухомани.