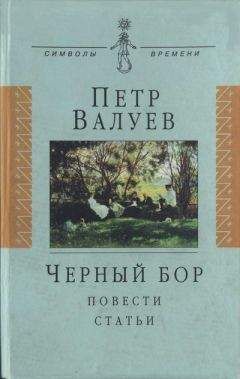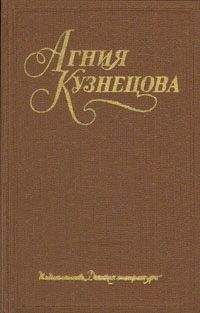– Напрасно, Алексей Петрович, совершенно напрасно, – сказал Глаголев. – Что касается Веры Алексеевны, то я готов поручиться за здешних студентов. Они все пойдут за нее в огонь и в воду. – При этом Борис Поликарпович посмотрел на Веру с таким выражением лица, которое должно было ее удостоверить, что он сам, во главе студентов, готов за нее идти и в огонь и в воду. Но выражение лица осталось незамеченным Верой. Она не подняла глаз с ручной работы, за которую принялась по возвращении на балкон, и как будто не слыхала данного за Алексеевских студентов поручительства. Варвара Матвеевна сердито взглянула на нее, а Снегин, заметив это, встал со своего места и сказал Глаголеву:
– Вы больно смело ручаетесь за других, Борис Поликарпова. Видно, что вы не так-то часто здесь бывали, хотя так хвалили Варваре Матвеевне Алексеевское, что под конец ее убедили в его преимуществах перед Сокольниками. Но я вас приглашаю сейчас сделать опыт поверки моих впечатлений. Пойдемте со мною в парк. Еще не поздно. Мы успеем немного пройтись до чаю, а Вера пока распорядится и нам его приготовит.
Глаголев нерешительно взглянул на Варвару Матвеевну, потом на Веру; но когда Алексей Петрович повторил свое приглашение, он также встал и сказал:
– Извольте, посмотрим, будут ли ваши студенты нам оказывать пренебрежение.
– Только не заставляйте себя долго ждать, – сказала Варвара Матвеевна.
Снегин и Глаголев вышли на улицу. Вера отложила свою работу в сторону и засмотрелась на вечерние перистые облака.
– Ты всегда крайне нелюбезна с Борисом Поликарповичем, – сказала ей Варвара Матвеевна.
– Я всячески стараюсь, тетушка, быть с ним вежливой и внимательной, – отвечала Вера, – даже стараюсь быть любезной, насколько умею, потому что знаю, что это вам приятно; но выражение его лица меня смущает, и мне всегда с ним как-то неловко.
– Напрасно; он тебе постоянно говорит любезности.
– Да; но его глаза нелюбезны. Есть что-то жесткое и неискреннее во взгляде и в голосе.
– Это тебе только кажется. Да и не одни глаза и голос у всех людей. Такие признаки весьма обманчивы. Например, его отец, по правде можно сказать, святой человек; а у него также, когда ему что-нибудь не понравится, лицо бывает таким строгим, что мне самой с ним почти страшно становится.
– И я замечала это выражение его лица, – сказала Вера, – но вы, тетушка, умеете владеть собою, а я как-то теряюсь, когда мне с кем-нибудь становится страшно.
Поздняя осень набросила на природу свой мрачный и влажный покров. Печален был вид тусклого неба; печален вид города, как будто притихшего и приунывшего под этим небом. Но на земле всегда есть печали, которые не зависят от окружающих их нынешних явлений и для которых безразличны ненастье и солнце. Такая печаль томила сердце Веры. Алексей Петрович был опасно болен и уже более трех недель не вставал с постели. Два припадка возвратной горячки истощили его силы, давно постепенно слабевшие под нравственным и физическим гнетом его трудовой жизни. Доктор Печорин, старый приятель и домашний врач Снегина, предупредил Варвару Матвеевну, что если бы случился третий припадок, то не было бы никакой надежды, чтобы больной мог его выдержать. Печорин не решился сказать этого Вере; но Варвара Матвеевна оказалась менее бережливой и тотчас после его ухода передала его отзыв. Вера не отлучалась от постели отца, кроме тех кратких промежутков отдыха, на которых он сам так настаивал, и Вера покорялась из боязни своим неповиновением возбудить в больном вредное для него раздражение или беспокойство. Но утомление брало иногда верх над силами молодой девушки и в то время, когда она сидела у постели Алексея Петровича. Если он казался спокойным и его закрытые глаза позволяли считать его погруженным в то состояние полудремоты, которое у труднобольных заменяет сон, то и глаза Веры порой невольно смыкались, и мимолетные, бессвязные, тревожные сны заступали для нее место тревожной действительности.
– Вера! Бедная Вера! – послышалось ей в одну из таких минут.
– Вы меня звали, папа́? – сказала она, очнувшись.
– Нет, – отвечал Алексей Петрович, – я ничего не сказал. Я смотрел на тебя и радовался тому, что ты заснула.
Вера вгляделась в отца и заметила, что крупные слезы скатились с его глаз и остановились на исхудалых и бледных щеках. Она встала и нежно поцеловала его.
– Что с вами, милый папа́? – тихо спросила она.
– Ничего, Вера, – сказал Алексей Петрович. – Я только думал о тебе, и мне стало жаль тебя.
– Папа, ради Бога, не тревожьте себя печальными мыслями; вы знаете, что вам нужно быть спокойным для того, чтобы скорее поправиться.
– Оправиться, милая Вера… быть может, Бог и даст это. Но во всем Его святая воля. Быть может, Ему и не угодно будет, чтобы я поправился…
– Папа, – сказала Вера, у которой слезы также выступили на глазах, – не говорите это. Бог милостив. Вы поправитесь.
– Дай Бог, – сказал Алексей Петрович, положив руку на голову Веры. – Мне точно кажется, что я себя чувствую лучше. Только слабость велика. Я теперь с трудом поднял руку… Но садись, поговорим с тобой. Поговорить все-таки следует, на всякий случай. Меня это успокоит.
Вера повиновалась, бережливо сдвинула со своей головы руку отца, поцеловала ее и, не выпуская ее из своей руки, другой рукой придвинула стул к его постели.
– Повторяю, – продолжал Алексей Петрович, – что будет то, что Богу угодно. Но если мне суждено с жизнью и с тобой проститься, то я желал бы, чтобы ты мне на прощанье обещала то, о чем я тебя хочу просить… Не прерывай меня… это меня успокоит, а ты сама мне напомнила, что и для выздоровления мне нужно быть спокойным… Обещай мне, что, если бы меня не стало, ты будешь терпеливо выносить всю тяжесть жизни при твоей тетке – по крайней мере до возвращения Леонина, когда твоя судьба должна решиться. Ты знаешь, что в моем завещании Карл Иванович назначен тебе попечителем. Он будет тебе и советником, и заступником; но не уходи из родного дома, оставайся при Варваре Матвеевне… не лишай меня вознаграждения за то, что я ради тебя сам вытерпел. Ты знаешь, что я в долгу у Варвары Матвеевны, конечно, только деньгами, но все-таки в долгу. Она меня однажды выручила из трудного положения; она помогла мне дать тебе образование и помогала тебя обеспечивать удобствами жизни. Ты – ее прямая и единственная наследница… Кроме того, ты знаешь ее нрав. Если вы разойдетесь, она будет тебя злословить; она может повредить тебе. В конце концов, ждать придется не так долго… Ты веришь Леонину, и я ему верю… Обещай!
– Обещаю, папа́, – сказала Вера едва слышным от усилия не заплакать голосом, – но ради Бога, не поддавайтесь этим печальным мыслям. Всего этого не будет; мы вас не лишимся.
– Тем лучше – но обещание мне было нужно… Нельзя и здоровому не помышлять о конце, а больному, как я, и подавно. Если бы не ты, меня такие помышления заботили бы менее; – то есть была бы та же нужда в Божием милосердии, и та же мольба перед Богом об отпущении грехов; но в грехах я каюсь, на милосердие уповаю. Только мало было бы о чем пожалеть на земле. Но когда я о тебе думаю – а ты знаешь, что я всегда думаю о тебе, – то так и защемляется сердце…
Усилия Веры были напрасны. Слезы брызнули из ее глаз.
– Умоляю вас, папа́, – сказала она, – для меня же поберегите себя. Теперь вам нужно о себе думать. Бог нас не оставлял. Он и меня не оставит. Он сохранит вас.
Вера встала, поцеловала отца и тихо повторила:
– Папа, подумайте о себе – не продолжайте этого разговора.
Алексей Петрович замолчал; но потом спросил:
– Давно ли Карл Иванович имел известия от Леонина?
– Еще на прошлой неделе, папа́. Они теперь в Венеции.
– А когда думают возвратиться?
– К июлю месяцу, как и прежде рассчитывали.
– К июлю… восемь месяцев, – проговорил как будто про себя Алексей Петрович. – Во всяком случае, на первых порах о тебе будут жалеть – и тебя поберегут…
Между тем другой разговор происходил в комнате Варвары Матвеевны, у которой уже с полчаса сидел благочинный протоиерей Поликарп Борисович Глаголев.
Протоиерей Глаголев был настоятелем одной из известнейших в Москве приходских церквей. Он сам также пользовался немалой известностью и как настоятель этой церкви, и как преподаватель Закона Божия в одном из высших учебных заведений, и как человек, обладавший в заметной степени даром слова. В среде духовного сословия и литературно грамотных чиновников он считался оратором. Beau monde довольствовался отзывом, что он хорошо говорит. Набожные пожилые дамы усердно ездили слушать его проповеди, и слушали их с умилением. Эти проповеди говорились редко, в большие праздники или при каких-нибудь особых случаях, но всегда произносились свободно, а не читались с тетради, как это у нас принято и обыкновенно ведет к тому, что слушатели, которым видна тетрадь, на нее обращают более внимания, чем на проповедь, следят за поворачиваемыми листами и не без нетерпения ожидают, чтобы повернулся последний лист. Отец Поликарп слыл человеком строгих жизненных правил, большим ревнителем православия и непреклонным врагом всех иноверных исповеданий. Он сам называл себя народником и, будучи порядочно начитан, обладал достаточным запасом современных фраз о дряблом Западе и о будто бы заглохших природных силах Древней Руси. Несмотря на все это, он не пользовался популярностью в среде торгового сословия. Он искал этой популярности; но ни внешний аскетизм, ни старание казаться приверженцем старинных обычаев и преданий не производили желаемого впечатления. Так называемое у нас купечество до сих пор живет, особливо в Москве и в замосковных губерниях, своей отдельной жизнью среди других классов населения. Оно не заботится о низших, не пристает к высшим и большей частью остается недоступным тем влиянием европейской образованности, которые, с одной стороны, развивают и совершенствуют в человеке то, что способно развиваться и совершенствоваться, но с другой – притупляют в нем то, что сразу дано в известной мере и затем не может быть ни развито, ни усовершенствовано. К таким прирожденным, первобытным и неподатливым способностям принадлежит инстинктивное распознавание чужой искренности и неискренности. Купцы, с которыми отец Поликарп старался сблизиться, чуяли в нем неискренность и от сближения уклонялись.