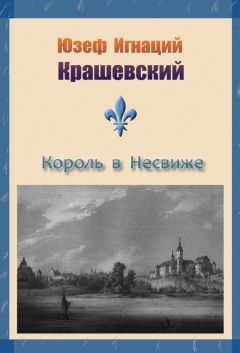Ознакомительная версия.
Начав с суда, даже до наказания, всё в ней принятое – есть варварством, можно сказать, что иначе насытить не в состоянии свою жажду крови и убийства, она жадно бросается на всякую поданную добычу. Пусть никакого милосердия не ожидает, кто в когти этих судей и палачей попадёт; тюрьма, допросы, осуществление приговора – всё есть издевательством и жестокостью, рассчитанными на то, чтобы жертва страдала как можно больше, чтобы палач насытился её мучением.
Ни пол, ни возраст, ни слабость, ни страдание защитить не могут; только сила возбуждает в них уважение, слабость – немилосердное издевательство. Если бы Христа собирались распять повторно, нашли бы средство к его страсти добавить какое-нибудь новое мучение…
Цивилизованный генерал трибунала и простой солдат обходятся с заключёным одинаково; диким сердцем это родные братья. Всё, что в описаниях этих кровавых и грустных деяний кажется преувеличенным и неправдоподобным тем, что Россию только поверхостно знают – является ещё тривиальным и недостаточным по сравнению с реальностью, на которую нет слов в людском языке, по той причине, что нет понятия о людском разуме… Рычание зверей могло бы, пожалуй, выразить эту животную жестокость…
Утром перед рассветом, потому что Москва привыкла искать темноту и скрываться со своим правосудием, выволоченных вдруг из цитадели виновников привезли на сборный пункт на Прагу[6].
День выдался хмурый, слякотный, серый и, несмотря на лето, холодный и ветренный. На промокшем от долгого ливня песке стояло несколько десятков человек, преимущественно молодёжи, в грубых солдатских шинелях, с постриженными головами, прикованных к железному штырю, и окружённых по кругу сильной стражей.
Эта экспедиция состояла из людей всякого положения и возраста, а Москва постаралась и о том, чтобы между политическими заключёнными находились простые жулики, намеренно желая преступную любовь к родине с самым подлым преступлением сравнять. Отличалась та фигура зловещего разбойника и жулика, с впалыми в череп глазами дикой кошки, от благородных мученических обликов…
Рядом с разбойником шёл прикованный старичок ксендз, который принимал присягу ремесленной челяди, спокойный, мягкий, на свои будущие страдания смотрящий ясным оком священника, который давно жизнь свою отдал Богу в Его руки и сам ею уже не распоряжался. Посаженный в тюрьму, прежде чем его начали допрашивать, старец потребовал распятие, и, получив его, поклялся в присутствии испуганного служащего, что никакая пытка слова из его уст не добудет. Осудили его за ту наглость, что смел укрыться под Божье крыло, защищаясь от правосудия царя… Священник улыбнулся, он чувствовал, что был на своём месте, так как нёс с собой слово смирения, утешения и надежды.
За ним шёл молодой парень, бледный и уставший от долгой неволи, болезненно улыбающийся – он смотрел на Варшаву и слеза навернулась под почерневшими от плача веками… Там! Там он оставил старую мать, калеку отца и её… ту, которую любил, и, которой было не разрешено даже прийти издалека помахать ему белым платком. Вчера он обнял в последний раз родителей и её… боясь обменяться именами, даже тихого будь здорова послать не смел. И смотрел, смотрел к ней, в ту сторону, где она, может быть, спрятавшись, плакала, и спрашивал, что ему предназначает судьба… когда же или никогда? – Навсегда! Как железным кинжалом раздирало ему грудь… навсегда! навсегда, страшное слово, которое вмещает в себе суть всей человеческой жизни.
За ним пожилой уже мужчина, отец семьи, тащился с кашлем в груди, обявляющим, что далеко не дойдёт, но с молчащим отречением; за шеренгой солдат стояла его заплаканная жена, двое детей, вытягивая к нему крохотные ручки, жена младенца поднимала вверх, чтобы и он попрощался с отцом. Он смотрел на них и думал, сколько могил откроется, чтобы поглотить столько отчаяния… он не имел уже никакой надежды, кроме смерти… недостаток, сиротство, бедность, унижение, а потом могила и тишина… Он не имел сил прощаться с ними, но смотрел, смотрел, чтобы эта картина выбилась и оставила знак в сердце и повторилась с последним его ударом.
За ним маленький мальчик, который ещё не окончил школы, не начал жизни, уже приступил к новой школе несчастья и первой боли жизни… Студент гордо поднимал лицо, с утешением, что рядом со старыми, такой молодой уже мог за отчизну страдать, его уста улыбались, глаза горели, он насвистывал какую-то песенку, и непризнанная слеза как дождевая капля высыхала на его горячей щеке… Родители были далеко! О судьбе его, может быть, не знали… но он был счастлив, что они услышат, как достойно он носил их имя…
За ним стоял старый мужчина, таинственного облика, жёлтый, исхудавший, с белыми холёными руками, с нежной кожей на лице, стиснутыми устами; видимо, он уже второй раз, возможно, в третий, пускается в эту далёкую дорогу… На его сморщенном лице висела жалобная забота, но глаза забыли о слезах, этих гостей молодости… не мог уже и не умел плакать. Он был отвердевшим и бесчувственным, солдат его бил, пытаясь поставить по порядку, он не чувствовал… В толпе никого не было, кто бы пришёл с ним попрощаться… он был взят под чужой фамилией и никто не знал о его настоящей…
За шеренгой солдат были видны лица толпы, семьи, друзей, жён и матерей, которые пришли сюда искать сыновей и братьев, украсть запрещённое прощание, ибо московское правосудие и с роднёй расстаться не допускает… нужно подстерегать, выгадывать, ловить взор последних приговорённых, нужно святой, последний поцелуй купить у безжалостных солдат, которые разгоняли собравшихся, смеясь над тем, что есть в мире самое достойное уважения – над болью.
Каждый из этих прибывших, кроме слёз, приносил что-то для осуждённых на долгое и неудобное путешествие, что-то, что могло бы им его подсластить, не зная, что поставляет добычу для стражников… Часто уже через несколько сот шагов за городом эти подарки и приношения распределяют между собой солдаты, либо ведущий партию офицер забирает якобы для сохранения, но о них вспоминать потом не годится.
На бледных лицах узников было видно всё, что они выдержали: голод, плохую пищу, используемую, как средство для ослабления в них духа, бессонницу, тревогу, розги и выдуманные пытки, наконец, одиночество, прерываемое руганью и угрозами… потухшие глаза, увядшая кожа, спёкшиеся уста говорили больше, чем поведали бы слова.
Хотя их ожидала тяжёлая судьба, хотя их руки были закованы, над собой имели казацкий кнут, а рядом приклад винтовки – одно дыхание свежего ветра, вид неба и более широкого пространства, немного более свободные движения, сближение с людьми одной судьбы и убеждений – уже это скорбное путешествие делали почти отрадным.
Но кто же оставляет свою страну и принимает то сиротство на плечи без чувства ужасной пустоты, в которую входит?
Даже старый брат монах, что уже отказался было от мира, поглядел, не увидит ли тех монастырских стен, в которых когда-то так блаженно и тихо протекали его годы – что же другие, которые за собой оставили семьи, тысячи узлов и столько сердечных нитей, разорванных так жестоко?
От этого железного отряда глаза бедных приговорённых отвернулись, ища в толпе знакомых, а когда их нашли, поили себя горечью предположений, предчувствий, опасений… Не один подумал, что о нём уже забыли, у другого смерть и болезнь сновали в голове. Те, что увидели знакомые лица, дёргали свою цепь, чтобы ещё раз к ним приблизиться, хоть услышать любимый голос, чтобы его звук остался в ушах и сердце, и звучал в той долгой гробовой тишине напоминанием более ярких дней.
Из-за рядов громкий плачь и брошенные торопливо слова летели к ушам жаждущих узников… узнавали от них о многих случаях, отголоска которых тишина цитадели к ним не допустила…
– А брат?
– В тюрьме.
– А муж твой?
– Сослан…
– А отец ваш?
– Убит…
– А она?
– Сидит в заключении…
– А друг наш…
– Умер и похоронить его было невозможно днём, мы проводили его ночью на Повужки…
Рядом с ксендзом и стариком стоял Юлиан, бледный, измученный, изменившийся до неузнаваемости, но с выражением мужества на лице, которым всё вытерпел. Видно было, что среди страданий не согнулся и не сдался, что отважно шёл навстречу своей судьбе, чувствуя себя апостолом святой правды, зная, что если бы его уста высказать за неё не могли, самим собой будет свидетельствовать о той правде, за признание которой был арестован.
Он никого не ожидал здесь найти и с кем попрощаться, но его мать стояла тут на протяжении трёх дней на часах, подкарауливая сына, ожидая его.
Заметил её Юлиан и улыбнулся, чтобы и ей придать мужества, он думал, что она пришла только со словом благословения в дорогу, и удививился, увидев узелок на её спине и палку в руках. На увядшем лице, несмотря на болезненное состояние, рисовалось холодное решение, которое черпает в себе силы к выполнению даже самых тяжёлых заданий. Та мысль, что мать хочет его сопровождать, больше доставила беспокойства, чем утешения, он предпочёл бы страдать один, чем быть причиной тяжкой боли для матери… Но она, также заметив его, обрадованная, кивнула ему только и стояла спокойно, не пытаясь даже приблизиться, когда другие рыдали, пробираясь сквозь солдат, чтобы ещё раз обнять любимого – она ждала в стороне, терпеливая, расчитывая на долгое путешествие, которое её собиралось связать её с сыном.
Ознакомительная версия.